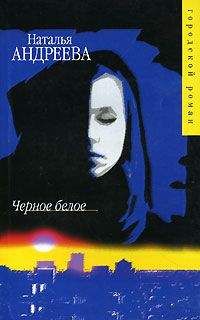Мирослава Томанова - Серебряная равнина
Ержабек спокойно посмотрел на Калаша:
— Лучше ты нам кое-что объясни. Почему ты от этого уклоняешься? Не хочешь? Не можешь? Почему не можешь?
Калаш пытался прикрыть испуг новым взрывом негодования:
— Ты хочешь допрашивать меня? Но рапорт на всех вас, в том числе и на тебя, Ержаб, должен подавать я!
В приоткрытую дверь протиснулся связной майора Давида. Калаш яростно крикнул ему:
— Чего лезешь сюда, как в хлев?
— У меня поручение для пана четаржа Калаша.
— Это я. Что надо?
Связной вытянулся по стойке «смирно» и, протянув Калашу письмо, на словах передал приказ майора Давида: ознакомить с содержанием письма телефонистов и немедленно написать ответ. Письмо было адресовано роте связи 1-й отдельной чехословацкой бригады. Обратный адрес? Калаш перевернул конверт: Анна и Вацлав Гинковы. Родители Боржека! Он вытащил письмо из конверта, но читать не отважился.
Ержабек молча взял у него из рук письмо и стал читать вслух:
«Исполните, пожалуйста, нашу настоятельную просьбу. Пусть тот, кто был вместе с нашим любимым сыном в день его смерти, напишет нам о последних минутах своего товарища…»
Все стояли, будто окаменев. Никто не проронил ни слова. Млынаржик вспомнил, как незадолго перед киевской операцией к Боржеку приходила Эмча. «Давай попрощаемся так, словно никогда уже не увидимся. Тогда с нами ничего не произойдет». — «В таком случае я рыдаю», — смеялся Боржек. Они поцеловались, словно прощались навсегда. И на тебе! Так и случилось. Млынаржик глубоко вздохнул, но — как и все — не произнес ни слова.
— Чего ты еще хочешь? — обернулся Ержабек к связному.
— Жду ответа. Пан майор желает знать, как погиб этот солдат…
— Я видел его в последний раз на пункте связи… — сказал Шульц, словно извиняясь, что ничего не знает об обстоятельствах гибели Борянека.
— Я тоже — там, — сказал Махат и, пристально посмотрев на Калаша, добавил: — Я с ним на линии не был.
Все взоры обратились к Калашу. Тот присел к столу, долго искал карандаш и бумагу, выдрал лист из тетради — все его движения были какими-то замедленными.
— Пан майор ждет, — напомнил связной.
Ержабек вдруг почувствовал: в этом деле есть что-то такое, чего не должны слышать чужие уши. Он отослал связного.
— Мы сами доставим майору ответ.
Потом сел за стол напротив Калаша. И Калаш понял, что теперь ни его воинское звание, ни командирская власть не имеют никакого значения. Перед ним сидел его товарищ, член партии, строгий судья, перед которым он — рядовой. Ему стало не по себе от этого импровизированного собрания. Это проверка. Он устремил на Ержабека испуганный взгляд.
— Почему ты не пишешь, Йоза? — спросил Ержабек. — Ведь это должен сделать ты! Ты был с ним до последней минуты.
Страх расширил зрачки Калаша.
И Ержабек опять почувствовал: в этом есть что-то такое, чего не должны слышать даже свои солдаты, и перестал настаивать.
Калаш положил карандаш на стол. Махат не сводил глаз с этого карандаша и чистого листа бумаги.
— Ты даже нам не хочешь рассказать, Йоза, что произошло с Боржеком? Почему мы не должны этого знать?
— Ведь я вам уже говорил — снаряд!
— Куда его задело?
— В голову.
— Был убит наповал?
— Нет.
Махату казалось, что ответ Калаша словно приоткрывает какую-то завесу:
— А что с ним произошло потом?
Калаш смотрел не на Махата, а на Ержабека. Строгие глаза Ержабека спрашивали: почему ты исповедуешься перед Махатом? Но Калаш неправильно понимал эти глаза. Приказывают мне: скажи правду, пусть самую страшную, но правду!
— Что же произошло потом? — повторил Махат.
Калашу почудилось, что этот бесцветный голос принадлежит Ержабеку.
— Приближались немцы… Я сократил его мучения.
— Что? Ты его?.. — Махат не мог договорить.
— В сердце. Чтоб не мучился.
— Как ты мог? У меня тоже была разбита голова… — Махат коснулся своего шрама.
Солдаты смотрели на Калаша, словно перед ними был незнакомый человек. Они еще далеко от родины. Им наверняка еще придется вместе с Калашем тянуть кабель — не сократит ли он и им страдания подобным образом?
— Может, я все-таки поступил правильно? — резко спросил Калаш, — Последняя услуга товарищу…
— Возможно… — нетвердо ответил Ержабек.
— Услуга товарищу? — повторил Махат. — Я тебе расскажу о другой услуге. Был воздушный налет. В лагере паника. Я этим воспользовался — и бежать. Два охранника за мной. — Махат задыхался. — Догнали меня и двинули по голове. Я потерял сознание. Думали, что я готов. А может быть, появилась новая группа бомбардировщиков? Не знаю, как уж там, но убежали. Меня нашел путевой обходчик.
— Немец? — спросил Ержабек.
— Немец. Притащил к себе в будку. Его жена перевязала рану и ходила за мной, пока я не набрался сил и не смог укрыться в надежном месте, куда меня направил этот же обходчик.
— Он был коммунист? — подал голос Зап.
— Не знаю. Но, безусловно, порядочный человек. Окажись это ты, Калаш, с твоей последней услугой товарищу — не гулял бы я по белу свету.
— Ты там не был, ты ничего не видел. Его рану с твоей даже сравнить нельзя. — Калаш закрыл ладонью половину лица. — Все это снесло.
— Моя рана была тоже не из легких, это и сейчас еще видно. Но мне ее перевязали… — Махат зажмурил глаза, чтобы никого не видеть. Тогда было так же, он никого не видел, но ведь рана постепенно зажила. А потом он увидел над собой два лица — это были обходчик и его жена. Их лица светились радостью. Махата захлестнуло отвращение к Калашу: — Какое ты имел право распорядиться судьбой человека?
— Ему уже ничем нельзя было помочь.
— Это сказал врач?
— Это сказал Станек.
Станек! Ненавистное имя. У Махата загудело в голове:
— Ах, вот как! Старик берет его, обессиленного, на задание, потом проронит: ему уже нельзя помочь, и ты, не задумываясь, добиваешь раненого. Ведь ты же, собственно говоря, Боржека убил. Вы оба, Станек и ты, вы поделили на двоих это грязное дело.
Связисты были потрясены. Невольно отпрянули от Калаша.
— Рассказываешь ты убедительно, — усмехнулся Махат. — Сократил ему страдания, чтобы он больше не мучился, да? — И произнес то, что сейчас было в мыслях у каждого. — А вдруг он еще мог жить, как я?
Солдаты уставились на шрам Махата. Калаш оцепенело смотрел на них, но тоже видел перед собой этот шрам. Что если Боржек и вправду мог бы жить, как Махат, как все остальные?
Стены поплыли перед глазами Калаша. Махат проговорил:
— Вот, оказывается, в чем дело. Хуже, чем мы предполагали. С вами идти — если не убьет немец, добьете вы! И после этого ты хочешь, чтобы мы шли с вами в бой, когда мы должны опасаться вас больше, чем немцев?
14
Станеку отвели приличный домик. Еще недавно здесь размещались эсэсовцы, а поскольку оплаченный дорогой ценой опыт подсказывал, что эти господа любят оставлять на память о себе совсем не шуточные «сувениры», Леош обшарил помещение сверху донизу. Содрал со стен вырезки из журналов с полуобнаженными красавицами — «пригодятся на растопку», — заглянул в глубь печки — мин не было.
Рядом с печкой, пока еще холодной, сидел Станек в наброшенном на плечи полушубке. Он наносил на карту только что полученные от майора Давида сведения об изменениях в телефонной сети. «Закончу и сразу же пойду к Яне».
Леош подтащил к печке кусок плетня, выгреб золу, загремел решеткой вытяжки, но мины и тут не обнаружил. Он сел на пол, поджал под себя ноги и стал разбирать плетень на прутки. Выкурить за этой спокойной домашней работой самокрутку и можно опять немного прийти в себя. Леош насыпал щепотку табаку на обрывок бумаги. Руки его вдруг одеревенели:
— Боже, что я делаю?
— Не мешай! — оглянулся на него Станек. Он увидел, как Леош высыпает табак назад в кисет, старательно сдувает с листочка табачные крошки. — Опять адрес твоей Мици?
— Все время забываю, — пробурчал Леош. Он раскрыл было рот, чтобы рассказать о Мици, но Станек прервал его. Жаль — это самая любимая тема Леоша.
Мици была пленной немкой. Леош был приставлен к ней в качестве часового и быстрее допрашивавшего офицера узнал от нее, что она не шпионка, не фашистка.
Мици готова была на все, лишь бы Леош был к ней добр и дал ей поесть. Он сунул ой мясные консервы. Она была счастлива. Леош тоже испытывал голод. Это был иной голод, но столь же неуемный — голод молодого существа. Потом они были счастливы оба. «Гитлер капут», — говорила Мици и при этом улыбалась Леошу так, словно объяснялась ему в любви. На прощанье она подарила ему колечко с ограненным стеклышком и поклялась никогда его не забывать. И Леош поклялся, что первый же его послевоенный маршрут поведет к ней.
Леош в задумчивости ломал прутья:
— Руки надо целовать таким девушкам…