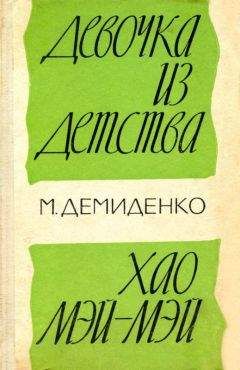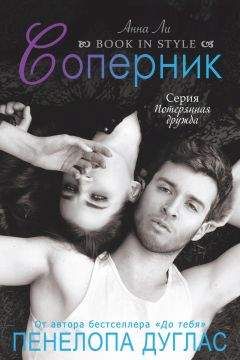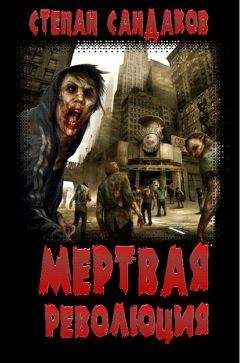Геннадий Воронин - На фронте затишье…
— Марш за мной! — приказывает Рязанов. — Быстро!
Он ведет нас прямо через кусты — вниз, в овраг, и продолжает распекать на ходу:
— Шляются, как оборвыши, а я должен за вас выговора хватать! Вы на себя поглядите! На кого вы похожи!..
Юрка довольно робко пытается ему возражать:
— Вы сами белье на передовую не сумели подбросить. В тылу всех одели, а мы здесь полмесяца босые и грязные под пулями ползаем.
Смыслов ничуть не боится Рязанова. Он бы и не так надерзил ему, если бы сейчас от него не зависел.
Подходим к «студебеккеру», спрятавшемуся в гуще деревьев. Из кабины выскакивает плотный, краснолицый старший сержант Шипулов и сухощавый, длинный как жердь, старшина-писарь Леплинский.
— Выдайте им белье и шинели! — кричит Рязанов.
Он смотрит на Юркины ноги:
— И ботинки Смыслову!
Оглядев меня, старший лейтенант приказывает:
— Подними ногу, ефрейтор! Правую!
Покорно приподнимаю свой разбитый ботинок, который давно просит каши. Подметка отстала. Она захлюпала еще неделю назад, и я прикрутил ее проволокой.
— Обоим ботинки! — бросает Рязанов.
— Товарищ гвардии старший лейтенант, прикажите еще фляжку, — умоляюще просит Юрка. — День рождения у меня, честное слово…
Он сует руку за пазуху:
— Можете по красноармейской книжке проверить. Честно.
Рязанов пристально глядит на Смыслова. Опять осматривает нас сверху донизу и в сердцах машет рукой:
— Идите вы к лешему! Шипулов, одень их с иголочки! И налей Смыслову двести… Тьфу ты его… триста грамм отпусти. Авансом!
Он круто поворачивается и, не оглядываясь, шагает прочь.
…Это великое счастье — ощутить каждым квадратиком кожи, как мягкая чистая фланелька ласкает спину и грудь. Новая рубаха льнет к телу. Конечно, надо бы сначала пополоскаться в горячей воде, помыться или хотя бы умыться. Да где тут умоешься, если нет воды.
Мы собираем с деревьев иней. Леденистый, жгучий. В пригоршнях он тает почти мгновенно. Холодные капельки приятно освежают щеки, лоб, губы. Юркино лицо, словно на фотобумаге, когда ее кладешь в проявитель, сначала покрывается белыми и темными пятнами, потом светлеет. Он утирается полой шинели, и с ним происходит удивительная метаморфоза.
Юрка становится совсем другой в этих блестящих толстокожих ботинках, в лоснящейся ворсистой шинели, а главное — в новой шапке, которая сразу преобразила его похудевшую, осунувшуюся физиономию. Подтянув потуже ремень, Смыслов расставляет в стороны локти и большими пальцами сгоняет к спине, к хлястику, складки шинели.
— Ну как? — спрашивает он, выпятив грудь.
Я показываю ему большой палец.
— Вот бы сфотографироваться сейчас, а? — с него уже слетела вся озабоченность. — Или хотя бы в зеркало поглядеться. В трюмо!..
Юрка рисуется, позирует, а я смеюсь. Мне становится весело и легко.
Поднимаемся вверх по склону. Не шагаем, а почти бежим. Юрка с ходу поддает ногой спекшийся ком земли, останавливается, поворачивается ко мне.
— Знаешь, что мне сейчас хочется? Побриться. Первый раз в жизни. У меня на бороде три волосинки выросли. Вот погляди. Вот…
Он тычет себя пальцем в подбородок и, не давая мне посмотреть на его волосинки, забегает вперед.
— Подожди. Я стишки про бритье вспомнил. Я на отдыхе их со сцены читал. Вот послушай. Стой…
Он отскакивает от меня на несколько шагов, забрасывает автомат за спину и принимает позу артиста:
— Слушай… — Юрка задумывается. — Забыл! Нет, вспомнил! Вспомнил!
И он начинает громко, торжественно декламировать:
Еще не научившиеся бриться
Мы в мир, пропахший порохом, вошли.
Над нами пули пели, как синицы.
Снаряды шли, крича, как журавли…
Он запинается…
— Дальше не помню. Выскочило… А вообще, здорово!..
Я соглашаюсь: конечно же здорово, и главное — опять-таки сказано как будто прямо про нас.
А Юрка снова убегает вперед. Одной рукой он придерживает автомат, а другой с разбега бьет по хрустящим веткам. С них осыпается иней. Он падает на его новенькую шапку, на погоны, на рукава и без того серебристой шинели.
Нет, не так уж много надо для солдатского счастья. Главное — почувствовать себя бодрым и сильным. Все остальное блажь, чепуха, все другое сразу отходит на задний план.
…Садимся за самоходкой. Юрка бросает мне фляжку:
— Держи, сейчас закуску организую.
Он уходит к кустам, где отсиживаются в щелях разведчики и телефонисты.
— Дорохов, к командиру полка! — кричат рядом, из-за борта машины.
Мысленно кляну себя за опрометчивость: «И угораздило же вернуться к машине! Сейчас опять полковник потащит меня за собой…»
Демин и Петров сидят с другой стороны самоходки, под пушкой. Перед ними на ящике нарезанный большими ломтями хлеб, две жареные курицы, огромная коричневая эмалированная кружка.
Демин опять в очках. «Сколько же у него очков?» Он чересчур внимательно, с явным интересом разглядывает меня сквозь толстые стекла. Что-то новое появилось в его лице. Ах, вон что — он успел побриться. Помолодел. Но главное не в этом. Я вижу, воочию вижу — он улыбается, честное слово!
— Товарищ Дорохов, а погоны почему старые?
Не знаю, что ответить ему. А полковник уже поворачивается к Петрову.
— По-моему, ему стоит одну лычку добавить. Оформите, товарищ Петров. — И глядит на меня с хитрым прищуром. — А вот в дополнение к новому званию. Выпей за сегодняшний день. Мы с тобой теперь вроде крестники. Немцы неплохо нас окрестили…
Он протягивает мне пузатую кружку, в которой на самом донышке плещется прозрачная жидкость — или спирт, или водка.
Если спирт, то я задохнусь — уже был такой случай. Я не могу его пить. Но понимаю, что теперь все равно придется отведать вонючей и жгучей гадости — ведь это как поощрение.
— Спасибо, товарищ полковник.
Демин берет обеими руками курицу за поджарые ноги-култышки. С хрустом разрывает ее и протягивает половинку мне.
Не хочется оскандалиться перед командиром полка и начальником штаба, и я хватаюсь за последнюю надежду:
— У нас своя есть водка, товарищ полковник. Вот. — Я показываю фляжку, которую по-прежнему держу в левой руке.
— Откуда?
— У Смыслова день рождения, товарищ полковник. Ну… мы выпросили немножко.
— У Рязанова?
— Так точно!
— Ну что ж, выговор ему обеспечен, — спокойно произносит полковник. — Не забудьте оформить, товарищ Петров.
— Надо бы сюда и Смыслова позвать, — говорит Петров, обращаясь ко мне, и спохватывается:
— Разрешите, товарищ полковник?
— Зови, зови своего любимчика, — ухмыляется Демин.
Юрка не заставляет себя долго ждать. Он вырастает рядом со мной, словно из-под земли.
— Ты что же, Смыслов, молчишь? Сколько тебе сегодня стукнуло? — спрашивает полковник.
— Девятнадцать, — Юрка с удивлением косится на кружку, которую я так и не решаюсь поднести ко рту. — Только не сегодня, а вчера. Закрутился. Забыл…
— А тебе, Дорохов, сколько?
— Восемнадцать, товарищ полковник.
— Восемнадцать, — задумчиво повторяет Демин. — Это же сама юность, товарищ Петров… А мне восемнадцать под Царицыном было. Помню, после боя командир роты выстроил нас, юнцов, и поздравил с началом боевой юности. Он говорил, что юность не годами измеряют, что она начинается с первого полезного дела для Родины. Хорошо говорил! На всю жизнь я это запомнил. Вот и у них, выходит, юность только здесь началась. На этой высотке они первую пользу Родине принесли…
Полковник как-то странно глядит на Смыслова. Я не пойму его взгляда. Он как будто взволнован.
— Видишь, капитан, как история повторяется. Новое поколение — новые битвы… — произносит он глуховато, негромко. Демин снимает очки. Повертев их в толстых пальцах, опять водружает на место. Точно — это уже верный признак волнения. Но он сразу же берет себя в руки.
— Ну что ж, вот и выпейте за боевое начало юности. Выпей, товарищ Дорохов!
Глотаю из кружки. Спирт! Горло обжигает огнем, спирает дыханье. Рывком протягиваю кружку с остатками спирта Смыслову и остервенело вгрызаюсь в курицу. Успеваю заметить — вторую ее половинку полковник протягивает Юрке. Слышу его слова:
— Молодость один раз у человека бывает. Выпей, товарищ Смыслов…
…Лес сотрясается от орудийных залпов. Он в один миг сбрасывает с себя белую маскировку из инея. Оголяются кусты и деревья. Становятся видны темно-серые узловатые переплетения ветвей.
Полковник встает, поправляет очки, отворачивает рукав шинели, глядит на часы, многозначительно оглядывается на начальника штаба. И в это время вздрагивает и начинает ходить ходуном земля. Она словно хочет уплыть из-под ног. Воздух упруго бьет в уши, давит на барабанные перепонки. Через наши головы, через высотку, шипя, фыркая, ввинчиваясь в воздух, летят снаряды и мины.
«Кажется, началось!..»
Самоходки, гаубицы, полковые минометы, «катюши» грохочут сотнями, нет, тысячами стволов…
![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](/uploads/posts/books/210499/210499.jpg)