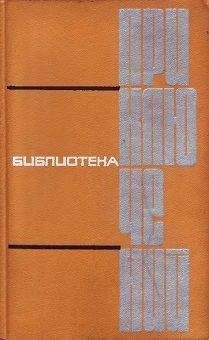Михаил Яворский - Поцелуй льва
Сгрудившись возле окна, мы наблюдали, как обе шеренги двинулись в сторону нашего здания. Шли они медленно, торжественно, словно похоронная процессия, волоча свои пожитки. Не переговаривались. Не переглядывались.
Тяжёлая тишина была нарушена только, когда господин в «борсалино» споткнулся о чемодан соседа. Он выпустил чемодан, который нёс на плече. Тот упал и открылся ― всё высыпалось. Мы думали, что конвоир набросится на него, но произошло невероятное ― конвоир помог ему собрать вещи и закрыть чемодан.
Наконец вся процессия вошла в здание. Теперь к нам доносилось только глухое лязганье дверей на верхних этажах. Всё стихло. Слышно было только шаги часовых.
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ВОРОБУШЕК
Начиная с супа с лапшой, который мы получили в день прибытия евреев, пища становилась всё сытнее и вкуснее. Больше не было кружек с мутным, еле тёплым пойлом, в котором где-ни-где попадалась крупа. Однажды овсяной суп был такой густой, что его тяжело было пить. Поскольку ложек у нас не было, я выгребал пальцем этот суп на ладонь, и уже оттуда слизывал его.
Улучшение в еде сходилось с днём прибытия евреев. Улучшили ли её только из-за них? Именно этим вопросом прониклась вся наша камера. Наконец согласились с тем, что это произошло из-за них. С самого начала с евреями обходились хорошо ― им разрешили взять с собой вещи. Они, наверно, имели подушки, одеяла, полотенца ― всё, чего не хватало нам.
Это породило зависть и возмущение.
― Чем мы хуже евреев?
― У нас немцы забрали всё, даже шнурки.
― Евреи везде могут выкрутить, даже в тюрьме.
― Они «избранный народ»?
― А мы кто?
Я тоже считал, что это нечестно. Спать на голом, холодном бетонном полу ― не очень большое удовольствие. Хотя бы я имел свитер. Рубашка и штаны на мне были грязные и пропахли запахом камеры. Родная мать бы не узнала. Я, как и все остальные, не умывался со дня прибытия в Лонцьки ― тут не было ни одного умывальника. Не удивительно, что надзиратель называл нас «die schwarze Teufel».[26] Это когда он находился в хорошем настроении, иначе для него мы были просто «Scheisskerle».[27]
Отношение к нам улучшилось с момента прибытия евреев. После того, как они появились, в туалете на втором этаже мы нашли пустую бутылку из-под водки. Мы использовали её для малой нужды. До сих пор, кто не мог вытерпеть, делал это через глазок для наблюдения в коридор. Теперь, когда бутылка наполнялась, мы выливали её через окно во двор.
Эта «еврейская бутылка», как мы её называли, нам сослужила хорошую службу. Но один раз, когда мы её опорожняли, вдруг перед окном появилась рука, схватила бутылку и стукнула её об решётку. Бутылка разбилась, обрызгав нас мочой и засыпав осколками стекла. К окну нагнулась блондинка. Размахивая нагайкой, она разразилась проклятиями и обещала «отрезать нам хвосты», если ещё раз поймает нас на чём-то подобном.
Через мгновение в нашей камере появился надзиратель и пожелал знать, откуда у нас бутылка. Все молчали, а он, раскрасневшийся, стоял и тыкал нам под нос своей дубинкой. Надзиратель всячески обзывал нас и говорил, что наше место в свинарнике, с чем я молча согласился, потому что там, по крайней мере, на полу солома и еды побольше.
Он приказал нам собрать осколки, а чтобы убедиться что в камере не осталось ни одного кусочка, велел по очереди снять одежду и вывернуть все карманы. Впрочем кусочек стекла с острым концом остался. Один из нас спрятал его во рту.
Осколок стекла был для нас немаловажной ценностью. Это была единственная вещь в камере, которая принадлежала нам. Каждый раз, когда часовой подходил к камере, кто-то прятал это стёклышко в рот. Когда он уходил прочь, мы молча радовались, что перехитрили его. Стекло служило нам и практически ― для шлифования ногтей после обгрызания, для выцарапывания надписей на стенах, для подсчёта дней. Каждый день новая отметка на стене.
Один раз, осматривая стену, мы с Богданом заметили под слоем штукатурки какую-то надпись. Смачивая слюной и отскабливая стеклом известь, мы строка за строкой читали стих:
Мой друг,
Скажи мне, почему,
Когда горячие и яркие лучи
Весеннего солнца,
Купают всё живое,
Моя печаль бесконечна?
А если знаешь ты,
То, умоляю, мне скажи:
Погладит ли лицо моё
Когда-то солнце,
Или увяну я, как осенний лист
В моей
Душной келье?
Одной ночью я проснулся и раздумывал, кто бы мог быть автором этих стихов, и вдруг услышал скрежетание входных дверей в корпус. Их открывали раньше, чем обычно. Потом я услыхал шаги часового этажом выше. Вскоре захлопали двери в коридоре, послышались крики: «Auf! Auf! Встать! Heraus!» Странно, всегда до сих пор нас будили первыми и вели в туалет.
По лестнице, что вела на второй этаж, топали подбитые подковами сапоги. Теперь проснулась вся камера и прислушивалась к тому, что происходит. На мгновение наше внимание отвлекло чирикание маленького воробья, который случайно залетел в тюремный двор. Все припали к окну, надеясь увидеть птичку. Однако увидели двух конвоиров, которые куда-то торопились.
Конвоиры сопровождали группу наскоро одетых людей. Некоторые несли небольшие чемоданы, но большинство держало какие-то второпях собранные вещи. Они растерянно топтались на месте. Несмотря на многочисленные команды, они никак не могли выстроиться в три шеренги. Тогда конвоиры принялись выстраивать их кулаками. В сером сумраке рассвета мы видели их лица — затурканные, онемевшие, неподвижные, удивлённые.
Подъехал крытый грузовик и, развернувшись, остановился посреди двора. Через несколько минут появилось авто с откидным верхом. Рядом с водителем сидел S.D. с автоматом на коленях. Автомобиль остановился перед грузовиком.
На ступенях административного здания появилась блондинка. Одета как всегда ― чёрные сапоги, брюки для верховой езды, белый свитер с высоким воротником. Нагайку держала, как держат цветы. Она медленно спускалась вниз с доберманом на поводке ― это напоминало мне сцену из какой-то оперы.
В сопровождении двух конвоиров она пересчитала заключенных ― тридцать шесть. Потом приказала положить на землю всё, что они держали в руках, снять пальто, пиджаки, обувь. Выполнили. Однако, когда она приказала мужчинам снять рубашки и штаны, а женщинам ― платья, никто и с места не сдвинулся.
Блондинка аж побагровела от злости. Один из конвоиров заорал: «Снять одежду, verfluchte Juden![28]» Она спустила добермана. Скоро все тридцать шест стояли в одном белье. Затем им приказали стать в очередь сзади грузовика.
Один за одним они залазили в кузов. Их рассадили в четыре ряда, колени приказали подтянуть, а ноги расставить. Но в последнем ряду ноги торчали наружу. Конвоир затолкал их внутрь и затянул брезент. Мои ладони покрылись холодным потом при мысли, что таким может быть и моё будущее.
Подъехал ещё один легковой автомобиль с тремя S.D. и остановился позади грузовика. Они перебросились несколькими словами с блондинкой. Снова проверили, или хорошо закрыт брезент грузовика. Глухой скрежет металлических ворот засвидетельствовал, что их открыли. Короткий свист. Процессия исчезла за углом здания.
МЫ СЛЕДУЮЩИЕ?
Мрачную тишину камеры нарушали только траурные вопли Степана, нашего сокамерника. «Господи, помилуй» как раз отвечало ситуации, потому что относительно судьбы евреев никто не питал никаких иллюзий. Именно Степану было к лицу распевать эту молитву, потому что перед тем, как вступить в Организацию, он изучал богословие. Однако когда он начал служить панихиду, горестно голося «Господи, спаси наши души!», мы испугались за его рассудок. Но он настоял на своём, говоря, что после нашей казни не будет кому отслужить панихиду, то почему бы это не сделать заранее, пока все ещё живы.
В тот день мы перестукивались до поздней ночи. Поскольку десятая и одиннадцатая камеры выходили окнами во двор, то они тоже видели как вывозили евреев. Каждого из нас волновал только один вопрос: «Мы ли следующие?»
Этот вопрос не давал нам покоя всё больше ― мы были свидетелями вывоза ещё трёх групп евреев.
Теперь остались только наши камеры. К тревоге присоединился ещё голод. Завтраки нам опять приносили нерегулярно, а супы стали водянистыми. Споры вспыхивали, как степные пожары.
― Немцы не осмелится так с нами поступить. Нас сорок миллионов. Им не победить без нас…
― Открой глаза! Они не лучше москалей. Им нужны только земля и дешёвая рабочая сила…
― Немцы цивилизованные, это же не московские варвары…
― Да неужели? Разве не Гитлер писал, что мы просто «вши на поверхности земли»?
― Это какая-то ошибка, когда всё выяснят, нас выпустят…
― Выпустят в ад…
― Даже когда нас не станет, наше дело продолжат, ведь нас массы…