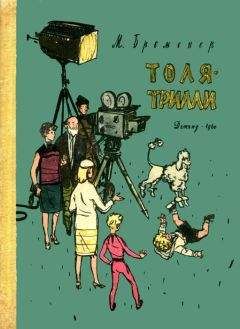Марк Бременер - Присутствие духа
Гнедин говорил… Ну давно же не вспоминали они о нем. Даже странно, как долго не вспоминали они о том, что есть на свете Гнедин…
Как накануне, на отрезок мостовой, изгибавшийся дугою, выехал грузовик, плавно повернул, стал виден ряд людей — шестеро или семеро — у заднего борта, кто-то из стоявших на тротуаре возле Воли закричал, и сразу второй грузовик заслонил собою первый, и у заднего борта, в нескольких метрах от себя, близко, Воля увидел Риту в знакомом пальто, перешитом из Алиного, в косынке, которую она и Аля весною носили по очереди. Он закричал — рядом с ним в этот миг тоже закричали — и бросился по тротуару вдогонку за грузовиком. Кто-то, опережая его, будто копытом наступил ему на ногу, заслонил от него спиною грузовик, он метнулся вслепую вперед изо всех сил, на кого-то налетел, отпрянул и очутился вдруг ближе прежнего к сбавившему ход грузовику.
— Рита! — окликнул он, видя лучше, чем в первый миг, ее лицо — похудевшее, но прежнее, такое, каким и было, каким вспоминалось.
Она заметила его, вскинула голову.
И остро глянула на него — совершенно так, как до войны, на этой улице, когда поранила себе переносицу и, еще не вынув зеркальца, в Волиных глазах хотела прочесть размеры беды…
Должно быть, впереди возник какой-то затор — грузовик почти полз. Лишь два конвоира было в нем, и у Воли мелькнула мысль: что-нибудь предпринять, попытаться… Но тут машины покатили все разом, взяли с места скорость, и Воля успел лишь крикнуть вслед:
— Рита, увидимся еще!..
Потом он не понимал, почему эти слова у него вырвались. И когда бы позже он ни вспоминал их, они всегда воскрешали тот миг и ту боль в ее не притуплённой временем нестерпимости.
Поток автомашин с немецкими солдатами, двигавшийся по направлению к железнодорожной станции, преградил Воле дорогу домой, и он остановился возле щита, на который была наклеена газетка «Голос народа». Здесь увидел его Леонид Витальевич и спросил:
— Вы что же, разлучились со своей мамой?
Воля сказал, как бы отвечая:
— Сейчас я видел, как везли на расстрел. Там была Рита Гринбаум.
Леонид Витальевич снял шляпу. Молча, очень прямо он стоял перед Волей, и лицо его медленно проникалось болью.
Почти без паузы Воля проговорил со сдержанной яростью и, могло показаться, с вызовом:
— Вы поглядите, что пишут!..
Не услышав его слов, а поняв лишь, что к нему обратились с чем-то, Леонид Витальевич переспросил:
— Что?..
Воля повторил.
— Где пишут? — Леонид Витальевич указал на щит с газеткой. — Тут?
И он развел руками, как бы напоминая, что «Голос народа», как им обоим известно, вовсе не голос народа, а голос фашистских оккупантов, и потому любая ложь тут ничуть не удивительна, даже — естественна.
Но хотя Леонид Витальевич и понимал, и другим умел объяснить, что газетка не может быть иной, он в то же время не мог привыкнуть к ее постоянной лжи. Сплошь и рядом он поражался вслух наглости этой лжи, ее абсурдности или совершенной несовместимости сегодняшней лжи со вчерашней, и притом, случалось, поражался громко, рискуя, что кто-нибудь услышит и донесет, но в сердцах пренебрегая этим. Римма Ильинична сердилась на него в такие минуты, иногда принималась его урезонивать, в последнее время все реже…
«…Молодежь освобожденных германской армией территорий, — читал теперь Леонид Витальевич, чувствуя, как Воля следит за выражением его лица, — с воодушевлением приветствует Новый порядок, счастлива строить новую жизнь, всецело одобряет мероприятия военной и гражданской администрации».
— Та-ак, — сказал протяжно Леонид Витальевич, легко догадываясь о том, что дальше, и дальше не читая.
Он скользнул взглядом по газетному листку: внизу помещены были фотографии «лучших сынов народа», активно поддерживающих «новый порядок». «Лучшими сынами» были Грачевский, знакомый Воле переводчик немецкого коменданта, привезший к ним ночью седого немца, еще кто-то…
— Вот говорят часто: «Как узнаешь, что за человек, — у него на лбу не написано». А как крупно, заметьте, написано на их лицах, кто они! — проговорил Леонид Витальевич, приглашая Волю полюбоваться фотографиями «лучших сынов».
— Видели, что напечатано! — упрямо повторил Воля, чего-то от него требуя.
Леонид Витальевич поднял на него глаза и испугался. Ему показалось, что Воля либо завопит сейчас что есть мочи, как в тот знойный день, когда немец-конвоир убил при нем пленного красноармейца, либо кинется наперерез огромным грузовикам с солдатами, зубами вопьется в покрышку на колесе…
— Воля, вы отправляйтесь сейчас домой — домой, сразу же, хорошо? — повторил он, как бы проверяя, усвоил ли Воля его слова. — И там передайте Миколе Львовичу… — Он помедлил, подбирая слова. — Передайте, что я просил его сказать вам о том же, о чем он сказал мне. Поняли?
— Нет, — ответил Воля с проблеском интереса. — А о чем он вам сказал?
— Н-ну-с, — произнес Леонид Витальевич в затруднении, — об этом, надеюсь, вы узнаете от него.
Расставшись с Волей, Леонид Витальевич стал вспоминать свой разговор с Бабинцом, с которого начиналась для него решительно новая жизнь. Он вдумывался в недавний диалог, вызывая в памяти интонации Бабинца и еще раз вслушиваясь в них.
… - Я понял, — сказал Микола Львович, когда тетя Паша оставила их наедине, — что вы умеете ненавидеть врага. И вот поэтому я вам ставлю вопрос: хотите бороться с ним, причем, понятное дело, не на жизнь, а на смерть?..
— Последнее вы могли отдельно и не оговаривать, — ответил Леонид Витальевич. — Хочу. Больше того, это — единственное, чего я действительно хочу сейчас, и немедля, пока захваченная земля не обращена в безлюдную пустыню…
— Партия неистребима, — произнес Бабинец.
— Да, наверно, вы правы, — согласился Леонид Витальевич, как бы признавая, что Бабинцу это виднее. — Но что до судеб культуры… Я бы слукавил, если б сказал, что перспективы…
— И культура неистребима, — из помедлив, заверил Бабинец.
— Нет, знаете, истребима, пожалуй, — возразил Леонид Витальевич таким тоном, точно это уж было виднее ему. — Если учесть, что удалось сделать Гитлеру с немцами за не очень долгое время…
И благодарный Бабинцу за то, что с этого дня приобщается к борьбе с врагом, Леонид Витальевич поделился с ним тем, о чем не успел еще сказать даже Римме Ильиничне:
— Знаете, я имел счастье услышать по радио из Москвы…
«Ого, у старика и приемник, вот тоже кстати!» — подумал Микола Львович.
— … стихи, в которых мои чувства выражены с точностью, на которую сам я едва ли был бы способен.
Меня теперь не умиляет Гете,
Не радуют ни Уланд и ни Тик,
В любых варьянтах сквозь немецкий стих
Мне слышится угрюмый шаг пехоты…
Он произнес это словно бы от себя, — и сетуя на себя за то, что так чувствует, и не в силах ничего с собою поделать.
— Да, пехота у них крепкая, упорная, — кашлянув, заметил Бабинец. — А все-таки главная их сила — мотомехчасти. Отсюда — маневренность. И танки, танки!..
Ему показалось, что Леонид Витальевич еще чего-то от него ждет, и он добавил:
— А пехоте этой, или, как говорят, живой силе противника, мы с вами на днях нанесем урон.
Воля лежал, прижавшись к подушке лицом, а тетя Паша утешала его. Она обещала, что со временем горе его утихнет, потом совсем пройдет, еще потом — забудется. И хотя нестерпима была боль, слова о том, что она совсем пройдет, тоже были нестерпимы. Чем, Воля не смог бы сказать…
Будто зная, что от этих ее утешений Воле не стало легче, тетя Паша, склонясь к нему, заговорила о том, что Рита была хорошая, славная, но как раз у него — это она ему по-женски может сказать — не было б с нею счастья…
— Ты не убивайся, — шептала Прасковья Фоминична возле самого его уха, — я ж все вижу, она б тебе была неверная, она знаешь была какая… Ты б о ней пекся, пылинки с нее сдувал, а она б летом на курорт с другим ездила — вот точно ж говорю! — и ты б даже не знал ничего!..
Ему захотелось оскорбить тетю Пашу, оттолкнуть так, чтоб отлетела, но вдруг по-взрослому он понял, что должно сдержаться.
Он оторвал от подушки голову, сел и сказал только:
— Нет.
И тетя Паша поняла это так: он не верит, что Рита ездила б на курорт не с ним, а с другим. И покачала головой…
Позже, как бы окликая, до Волиного плеча дотронулся Бабинец. Воля взглянул на него, и он трижды тяжело кивнул, словно подтвердил: «Худо, горько, паршиво». Потом произнес вслух:
— Ничего. Бывает хуже.
Слова эти, такие же привычные, как «Нос-то не вешай!» или «Это дело перекурим как-нибудь», внезапно заставили Волю подумать о тех, кому хуже. Еще хуже, чем ему.
Он подумал о тех, кто, потеряв близких, сам попал в гестапо. О тех, кто у ворот гетто ждал сейчас, пока вернутся пустые грузовики, которые увезут их на казнь. Почти насильно он удерживал в сознании мысль о том, что испытания, переносимые другими, мучительнее… Но чувства, что его судьба — не самая тяжелая, не возникало.