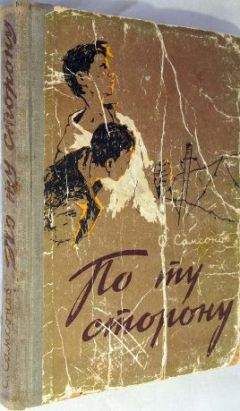Михаил Колосов - Три круга войны
— Крепись, родненький, крепись… О, как тебе повезло, миленький!.. Еще бы немного, и прямо в сердце… Пулей навылет. Ну ничего, ничего… Все будет хорошо.
Забинтовав, она сделала петлю, набросила ему на шею и сунула в нее осторожно его руку.
— Ну вот… — она мягко набросила ему на плечо шинель. — Посиди. А если можешь, иди в санбат. Вот этой траншеей до поворота, а там — ходом сообщения… Как, родненький?..
— Пойду… — решил Василий.
— Иди, миленький…
У хода сообщения уже сидело несколько человек раненых. Тут распоряжался какой-то бойкий пожилой ефрейтор. Назначил старшего, рассказал, где расположен санбат, и отправил первую команду.
В санбате, когда Гурину уже сделали противостолбнячный укол, обработали рану и сестра бинтовала его плечо, заводя конец бинта под мышки, он вдруг услышал тягучий, нудный, так опротивевший ему за эти неполные сутки голос:
— Доктор… а я… буду жив?..
Гурин оглянулся и увидел своего напарника — его несли куда-то на носилках, а он все скулил:
— Доктор… а я… буду жив?..
У Гурина все еще кипела на него злость, и он сквозь зубы процедил:
— Ах ты паразит! Он еще жизнь себе выпрашивает!.. Гнида…
На подножном корме
есенняя распутица сделала дороги непроезжими. Автомобили оказались совсем парализованы. Из-за отсутствия транспорта в санбате скопилось огромное количество раненых. Днем и ночью здесь стояли стон, крик, ругань. Тяжелораненые — народ капризный, мнительный, им всегда кажется, что их бросили, забыли, что о них никто не заботится. Самых тяжелых эвакуировали «кукурузниками». Но много ли ими перевезешь? С легкоранеными ходячими нашли самый простой выход: формировали в группы и отправляли в госпиталь своим ходом.
Группа, в которую попал Гурин, составилась человек из двадцати. Старшим был назначен из раненых же сержант по фамилии Кропоткин — бывалый вояка: с медалями и орденом Красной Звезды на гимнастерке. Отчаянный и расторопный парень. Роль «главнокомандующего» он принял охотно и не чаял, когда они наконец покинут санбат и тронутся в дорогу, словно где-то там его ждала родная мать.
— Да на кой нам это? — возмущался он, когда им выдавали сухой паек из расчета на три дня пути. — Так прокормимся, по «бабушкиному аттестату».
Однако их снаряжали в путь по всем правилам: выдали продукты, выписали общий на всю группу продовольственный аттестат, вручили Кропоткину необходимые документы на раненых, растолковали маршрут и только после этого отпустили.
И вот они наконец на воле, вырвались из переполненного и гудящего, как вокзал во времена мешочников, санбата, вздохнули легко и свободно. Идти предстояло далеко — госпиталь располагался где-то на левом берегу Днепра, между Верхним Рогачиком и Большой Лепетихой.
Но радостное чувство свободы омрачилось уже с первых шагов: как только вышли за село — окунулись в такую непролазную грязь, которую трудно себе представить. Ноги либо утопали по самые щиколотки, либо разъезжались в разные стороны, и им, одноруким, трудно было удержать равновесие и не упасть. Однако во всем нужна своя сноровка, привычка, опыт. Так и солдаты вскоре приспособились к дороге — научились распознавать твердую кочку от нетвердой, неглубокую лужу от глубокой, научились держать равновесие, балансируя одной здоровой рукой, и все реже и реже стали падать и звать на помощь товарищей.
Команда Кропоткина уже на первых километрах растянулась в длину и разбрелась вширь, он хотел было сорганизовать как-то их, но после двух-трех попыток отказался от этой затеи, махнул рукой.
На большаках, проселках и прямо по полю — всюду были рассыпаны машины. Одни скособочились, провалившись в кювет, другие стояли поперек дороги; одни давно замерли, потеряв всякую надежду сдвинуться с места, другие ревели перегретыми моторами, пытаясь продвинуться вперед хоть на метр. Но напрасно шофера надрывали моторы, напрасно жгли драгоценное горючее — грязь засасывала колеса все глубже и глубже, пока машина не садилась на собственное брюхо и делалась совсем беспомощной. И тогда солдаты впрягались вместо машин и сами тащили пушки, минометы, несли на себе ящики с боеприпасами.
Утопая в глубокой грязи, к фронту двигались караваны лошадей, волов и даже коров, навьюченных продовольствием и боеприпасами. Армии помогало гражданское население. Женщины, старики, подростки сплошным потоком тянулись в сторону передовой. Связав попарно за хвосты стодвадцатимиллиметровые мины и перекинув их через плечо, они несли этот опасный груз не только без боязни, но как-то весело, с шутками, довольные, что стали полезными фронту.
На равнинных полях вода стояла спокойными озерами, серебрилась против солнца, слепила глаза ярким отражением.
В оврагах дотаивал грязный ноздреватый снег, и юркие, быстрые ручейки, журча, убегали куда-то вниз, чтобы тоже где-то разлиться на равнине и напоить землю вешней водой или слиться в один большой ручей и добежать до самого Днепра.
Оголившиеся и пригретые солнцем пашни курились густым паром, словно на них тлели остатки многочисленных костров.
На душе у Гурина было легко и весело. Какая-то свобода, раскованность охватила его, и он шел, наслаждаясь и весной и своей свободой, подставлял заветренное лицо теплому солнышку, жмурился от ярких лучей его, словно изнеженный кот.
— Ребята, мы торопиться не будем, — уже в который раз вдалбливал спутникам свою идею Кропоткин. — Куда нам спешить? Ведь не на фронт идем, а в госпиталь. Верно? Будем идти нормально. Госпиталь никуда не денется. Если и опоздаем на денек-другой, нам ничего не грозит. Успеем еще хлебнуть госпитальной жизни. Мы же не на марш-броске? Верно? — Он был ранен когда-то осколком в щеку, от этого, рот у него кривился немного, и потому казалось, что он вот-вот заплачет, уговаривая солдат, и поэтому они соглашались с ним быстро и охотно.
— Конечно, куда нам торопиться? Да по такой дороге и не очень-то разбежишься.
В первом селе Кропоткин расположил свою команду на ночлег. Сам обегал хаты, договорился и потом развел каждого. Одну хату пропустил, сказал:
— В этом доме я буду, — и Гурин заметил в дверях хорошенькую молодицу, которая с любопытством выглядывала из сеней.
…Утром в назначенное время раненые по одному медленно потянулись в конец улицы — на условленное место сбора. Все были сытые, довольные, терпеливо ждали запаздывающих, делились впечатлениями, травили анекдоты, смеялись, несмотря на ранний час.
За сутки общения уже выявились в группе свои пессимисты и оптимисты, трепачи и молчальники, пошляки и люди серьезные, рассудительные.
Хорошим трепачом оказался ефрейтор Бубнов — нос с большую картофелину, губы мясистые, большие, глаза посажены широко — природный тип шута. По характеру милый, добродушный губошлеп. По крайней мере, он носил такую маску, на самом же деле Бубнов губошлепом не был. Ушлый парень. Еще издали — уже у него рот до ушей, глаза смеются: так и знай — приготовился что-то рассказывать.
— Сейчас начнет врать, будто его и накормили и напоили, — сказал вслух Володя Горохов — пессимист.
— Неужели тебя голодным отпустили? — удивились солдаты.
— Да-а… — Горохов махнул лениво здоровой рукой. — Вечером борщ да сало, а утром картошки нажарила — и все. Молока, говорит, нет, корову вроде немцы угнали, — и Горохов поморщился недовольно, отвернул лицо в сторону: мол, и говорить об этом не хочется. — А утром голуби начали ворковать под окном, спать не дали.
— А ты бы заказал себе бифштекс, ромштекс и кулебяку, — посоветовал Бубнов, услышав жалобы Горохова. — Чудак, не смог организовать!
— Бяку ему с хорошим рожном, а не кулебяку, — заметил рассудительный Григоренков, в прошлом учитель-химик в сельской школе Смоленской области.
— Вот у нас попалась старуха — настоящий ерш! — начал Бубнов очередную свою байку.
— Где, здесь?
— Нет. Здесь что, здесь все зер гут! Тут наш брат пока не надоел, принимают что надо. Даже чарочку поднесли, — и он с видом завзятого выпивохи щелкнул себя по кадыку. — А то дело было еще перед Днепром, За день марш сделали километров пятьдесят, наверное. Устали как собаки. И голодные — кишки марш играют. Наконец село, останавливаемся на ночлег. Захожу во двор, куда нам показали, и вижу — на стене дощечка прибита, а на ней написано: «Мисливець». Ну, думаю, повезло: мыслитель живет, значит, человек сознательный. Философ!..
И тут не выдерживает Шпак — пожилой украинец, не терпевший, когда искажают или не понимают «украинську мову».
— «Мыслитель»! — передразнил Шпак. — Мыслывець — это охотник, а там було напысано прызвище, фамилия, ну як у вас Охотников, напрыклад.
Бубнов слушал замечание Шпака, затаив в глазах ехидных чертенят.