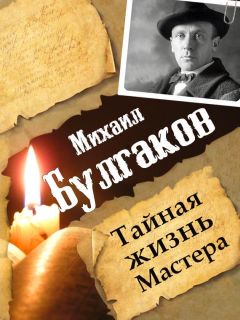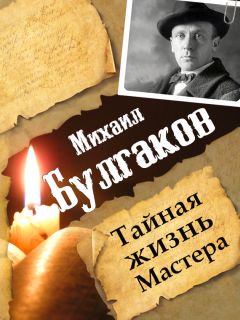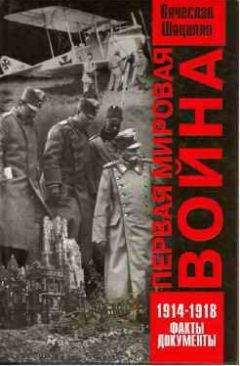Михаил Булгаков - Весь Булгаков
– Почему же ты не позвонил? Что означает вся эта петрушка с Ялтой?
– Ну, то, что я и говорил, – причмокнув, как будто его беспокоил больной зуб, ответил администратор, – нашли его в трактире в Пушкине.
– Как в Пушкине?! Это под Москвой? А телеграммы из Ялты?!
– Какая там, к черту, Ялта! Напоил пушкинского телеграфиста, и начали оба безобразничать, в том числе посылать телеграммы с пометкой «Ялта».
– Ага… Ага… Ну ладно, ладно… – не проговорил, а как бы пропел Римский. Глаза его засветились желтеньким светом. В голове сложилась праздничная картина позорного снятия Степы с работы. Освобождение! Долгожданное освобождение финдиректора от этого бедствия в лице Лиходеева! А может, Степан Богданович добьется чего-нибудь и похуже снятия… – Подробности! – сказал Римский, стукнув пресс-папье по столу.
И Варенуха начал рассказывать подробности. Лишь только он явился туда, куда был отправлен финдиректором, его немедленно приняли и выслушали внимательнейшим образом. Никто, конечно, и мысли не допустил о том, что Степа может быть в Ялте. Все сейчас же согласились с предположением Варенухи, что Лиходеев, конечно, в пушкинской «Ялте».
– Где же он сейчас? – перебил администратора взволнованный финдиректор.
– Ну, где же ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, администратор, – натурально, в вытрезвителе.
– Ну, ну! Ай, спасибо!
А Варенуха продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь лиходеевских хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля»[138]. Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать Степе машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить Степины паскудства… Словом, темный ужас!
Степа был хорошо известен в театральных кругах Москвы, и все знали, что человек этот – не подарочек. Но все-таки то, что рассказывал администратор про него, даже и для Степы было чересчур. Да, чересчур. Даже очень чересчур…
Колючие глаза Римского через стол врезались в лицо администратора, и чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор, тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полночь администратор, все – ложь! Ложь от первого до последнего слова.
Варенуха не ездил в Пушкино, и самого Степы в Пушкине тоже не было. Не было пьяного телеграфиста, не было разбитого стекла в трактире, Степу не вязали веревками… – ничего этого не было.
Лишь только финдиректор утвердился в мысли, что администратор ему лжет, страх пополз по его телу, начиная с ног, и дважды опять-таки почудилось финдиректору, что потянуло по полу гнилой малярийной сыростью. Ни на мгновение не сводя глаз с администратора, как-то странно корчившегося в кресле, все время стремящегося не выходить из-под голубой тени настольной лампы, как-то удивительно прикрывавшегося якобы от мешающего ему света лампочки газетой, – финдиректор думал только об одном, что же значит все это? Зачем так нагло лжет ему в пустынном и молчащем здании слишком поздно вернувшийся к нему администратор? И сознание опасности, неизвестной, но грозной опасности, начало томить душу финдиректора. Делая вид, что не замечает уверток администратора и фокусов его с газетой, финдиректор рассматривал его лицо, почти уже не слушая того, что плел Варенуха. Было кое-что, что представлялось еще более необъяснимым, чем неизвестно зачем выдуманный клеветнический рассказ о похождениях в Пушкине, и это что-то было изменением во внешности и в манерах администратора.
Как тот ни натягивал утиный козырек кепки на глаза, чтобы бросить тень на лицо, как ни вертел газетным листом, – финдиректору удалось рассмотреть громадный синяк с правой стороны лица у самого носа. Кроме того, полнокровный обычно администратор был теперь бледен меловой нездоровою бледностью, а на шее у него в душную ночь зачем-то было наверчено старенькое полосатое кашне. Если же к этому прибавить появившуюся у администратора за время его отсутствия отвратительную манеру присасывать и причмокивать, резкое изменение голоса, ставшего глухим и грубым, вороватость и трусливость в глазах, – можно было смело сказать, что Иван Савельевич Варенуха стал неузнаваем.
Что-то еще жгуче беспокоило финдиректора, но что именно, он не мог понять, как ни напрягал воспаленный мозг, сколько ни всматривался в Варенуху. Одно он мог утверждать, что было что-то невиданное, неестественное в этом соединении администратора с хорошо знакомым креслом.
– Ну, одолели наконец, погрузили в машину, – гудел Варенуха, выглядывая из-за листа и ладонью прикрывая синяк.
Римский вдруг протянул руку и как бы машинально ладонью, в то же время поигрывая пальцами по столу, нажал пуговку электрического звонка и обмер. В пустом здании непременно был бы слышен резкий сигнал. Но этого сигнала не последовало, и пуговка безжизненно погрузилась в доску стола. Пуговка была мертва, звонок испорчен.
Хитрость финдиректора не ускользнула от Варенухи, который спросил, передернувшись, причем в глазах его мелькнул явный злобный огонь:
– Ты чего звонишь?
– Машинально, – глухо ответил финдиректор, отдернул руку и, в свою очередь, нетвердым голосом спросил: – Что это у тебя на лице?
– Машину занесло, ударился об ручку двери, – ответил Варенуха, отводя глаза.
«Лжет!» – воскликнул мысленно финдиректор. И тут вдруг его глаза округлились и стали совершенно безумными, и он уставился в спинку кресла.
Сзади кресла, на полу, лежали две перекрещенные тени, одна погуще и почернее, другая слабая и серая. Отчетливо была видна на полу теневая спинка кресла и его заостренные ножки, но над спинкою на полу не было теневой головы Варенухи, равно как под ножками не было ног администратора.
«Он не отбрасывает тени!» – отчаянно мысленно вскричал Римский. Его ударила дрожь.
Варенуха воровато оглянулся, следуя безумному взору Римского, за спинку кресла и понял, что он открыт.
Он поднялся с кресла (то же сделал и финдиректор) и отступил от стола на шаг, сжимая в руках портфель.
– Догадался, проклятый! Всегда был смышлен, – злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, проговорил Варенуха, неожиданно отпрыгнул от кресла к двери и быстро двинул вниз пуговку английского замка. Финдиректор отчаянно оглянулся, отступая к окну, ведущему в сад, и в этом окне, заливаемом луною, увидел прильнувшее к стеклу лицо голой девицы и ее голую руку, просунувшуюся в форточку и старающуюся открыть нижнюю задвижку. Верхняя уже была открыта.
Римскому показалось, что свет в настольной лампе гаснет и что письменный стол наклоняется. Римского окатило ледяной волной, но, к счастью для себя, он превозмог себя и не упал. Остатка его сил хватило на то, чтобы шепнуть, но не крикнуть:
– Помогите…
Варенуха, карауля дверь, подпрыгивал возле нее, подолгу застревая в воздухе и качаясь в нем. Скрюченными пальцами он махал в сторону Римского, шипел и чмокал, подмигивал девице в окне.
Та заспешила, всунула рыжую голову в форточку, вытянула сколько могла руку, ногтями начала царапать нижний шпингалет и потрясать раму. Рука ее стала удлиняться, как резиновая, и покрылась трупной зеленью. Наконец зеленые пальцы мертвой обхватили головку шпингалета, повернули ее, и рама стала открываться. Римский слабо вскрикнул, прислонился к стене и портфель выставил вперед, как щит. Он понимал, что пришла его гибель.
Рама широко распахнулась, но вместо ночной свежести и аромата лип в комнату ворвался запах погреба. Покойница вступила на подоконник. Римский отчетливо видел пятна тления на ее груди.
И в это время радостный неожиданный крик петуха долетел из сада, из того низкого здания за тиром, где содержались птицы, участвовавшие в программах. Горластый дрессированный петух трубил, возвещая, что к Москве с востока катится рассвет.
Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое ругательство, а Варенуха у дверей взвизгнул и обрушился из воздуха на пол.
Крик петуха повторился, девица щелкнула зубами, и рыжие ее волосы поднялись дыбом. С третьим криком петуха она повернулась и вылетела вон. И вслед за нею, подпрыгнув и вытянувшись горизонтально в воздухе, напоминая летящего купидона, выплыл медленно в окно через письменный стол Варенуха.