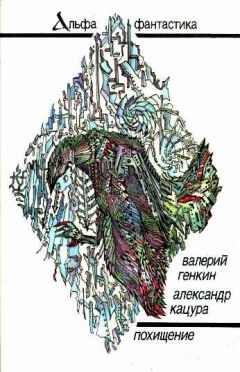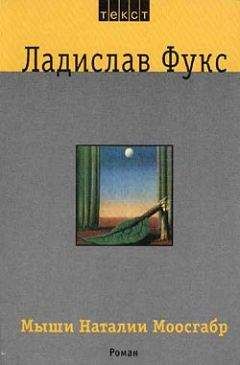Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
Теперь я окончательно пришел в себя. Николай очень строг, он никому бы не простил такого, не прощает и себе.
«Приговорил себя», — решил я.
Нельзя допустить это безумие!.. Я сжал его руку. Он закричал, нечеловечески закричал.
И тут я увидел, что вместо ног у Николая сплошное кровавое месиво. Правая нога была оторвана и лежала в стороне.
— Стреляй, черт тебя возьми! — закричал я. — Стреляй, все равно конец!..
У него было еще достаточно сил — и откуда они взялись? Он снова поднял руку с пистолетом, еще раз выругался и выстрелил.
Насилу добрался я до крыльца. Перед домом стояли замершие от ужаса люди — партизаны, хуторяне, женщины, дети. Дом горел. Петер умывался. На меня посмотрели, как на пришельца с того света.
— Он застрелился, — тихо сказал я.
Тут раздался крик, с земли поднялось что-то страшное, черное… Это была Ольга с обожженными руками и ногами, почерневшим лицом, в опаленных лохмотьях.
— Нет! Нет! — кричала она. — Коля! Коленька! Пустите меня, пустите меня!..
Она готова была броситься в огонь — три человека с трудом удержали ее. Но зловещее оцепенение толпы прошло. Сразу все поняли, что дом горит, все бросились кто куда, через минуту притащили ведра, партизаны стали тушить пожар. Гришка вынес то, что осталось от Николая. Ольгу оттащили в сторону, а три куска тела Николая покрыли брезентом. Суровые мужчины сняли шапки. К нам пришла смерть, смерть пришла в Плоштину. Нет больше Николая, Николай мертв…
Что же будет? Что дальше? Что мы станем делать без него?
Кто-то копал могилу у опушки. Мы завернули его в брезент, опустили в яму.
Прибежала Ольга и бросилась на тело.
— Я хочу его увидеть… еще раз увидеть, — стонала она.
А когда увидела — потеряла сознание. И хорошо, что потеряла.
Мы похоронили Николая в плоштинской земле, дали салют над могилой, сровняли ее с землей…
Никто из хуторян не мог произнести ни слова. В глазах их была неуверенность, страх. Что будет? Что теперь будет?
— Совет! Партизанский совет! — закричал рябой Гришка.
Догорал пожар. Мы не понимали еще всего размера постигшей нас катастрофы, еще плакали хуторские женщины, еще Ольга зарывала руки в землю у свежей могилы, а мы выбирали уже нового командира — так надо было, так велел партизанский закон. Это было требование самой жизни.
— Гришка, — поднял руку Алекс.
— Гришка, — повторил Ладик.
— Гришка, — сказал я и подумал про себя: «Хороший парень Гришка, верный товарищ, но это не Николай».
— Гришка, — неуверенно проговорил Петер.
— Гришка, — услышал я голос Фреда.
Голос Фреда… Фреда… Фред! Что связано с Фредом? Фред… Тут что-то не так… Но что?
— Фред! — крикнул я. — Фред!
Он вздрогнул. Кровь отлила от его лица. Он отпрянул, закрыл лицо руками, точно его собирались ударить.
— Но ведь… совет… — пробормотал он и выбежал. Все повернулись ко мне. Что еще случилось? Разве не достаточно нам того, что уже есть?
— А те? Те двое, Гришка! Фред не должен был отходить от них.
Гришка объявил тревогу.
— Усилить караулы, разведчиков в лес. Оцепить все дороги!
Это были первые приказы нового командира.
— Петер! Никого не выпускать из Плоштины, никого, слышишь? За неповиновение — стрелять.
Один из Гришкиной группы вдруг отделился от товарищей, которые испуганно жались друг к другу.
— Что случилось. Ярда? — бросился к нему Гришка.
Парень не знал, что ответить.
Прогремел выстрел. Парень схватился за живот, рухнул на землю, дым шел из Гришкиного нагана.
— Я покажу тебе! Я покажу, как уходить с поста! — кричал Гришка.
Он был страшен. Все отпрянули назад от его взгляда. Плохо дело. Хаос, деморализация — плохо нам придется. Гришка прав, он имел на это право… Но плохо так начинать.
— Добей хоть ты его…
Я отвернулся, не в силах смотреть на все это.
Раздался еще один выстрел, в глазах парня погасли тоска, боль, страх смерти, в них были теперь покой и примирение с миром.
— Прости, Ярда, — услышал я голос Гришки. — Так было нужно…
— А с вами что? — набросился он на остальных. — Вы что, с ума спятили? Быстро в лес. Если мы не схватим их, плохо будет.
Мы обшарили все кусты, овраги, заросли. Обыскали все скотные дворы, погреба, чердаки Плоштины. Патрули возвращались один за другим. Никого не нашли. Никого на шоссе. Никого в лесу.
— Вечером партизанский суд, — приказал Гришка.
— Кого будем судить?
— Фреда. Взять его под стражу, отобрать оружие.
Но сторожить Фреда не потребовалось. Он и сам бы никуда не ушел. Он понимал все, что случилось и какие последствия может повлечь за собой его проступок.
В самой чаще леса мы разожгли три костра. Петер расставил вокруг всего хутора густую сеть патрулей. В сущности, это был даже не суд, потому что звучало на нем одно лишь обвинение. Фред стоял у костра со склоненной головой. Мне было жаль его, я любил его и знал, чем может кончиться дело. Иначе было нельзя. Именно я, который любил его больше всех, должен был произнести страшные слова обвинения. Обвинение было коротким, что же много говорить? Он оставил пост, и это дало двум провокаторам возможность использовать общее смятение и бежать из Плоштины. Это бегство может повлечь за собой какие угодно последствия. Положение осложняется еще и тем, что, когда эти провокаторы явились в отряд, Фред не прямо, конечно, но все же поручился за одного из них. Все. Он заслуживает высшей меры наказания.
— Что ты можешь сказать на это, Фред? — торжественно и важно спросил Гришка.
— Ничего. Расстреляйте меня.
— Расстрелять? — услышал я скрипучий, ненавистный голос Петера. — Вон чего захотел, — продолжал Петер. — Да мы повесим тебя! Да я сам повешу, — и Петер сделал красноречивый жест.
Я возмутился. Мне был отвратителен этот кровожадный человек. Его мания убивать, его перекошенное ненавистью лицо, то, как он спешил стать палачом. В эту минуту я возненавидел его и, наверное, буду ненавидеть всегда.
Я попросил слова.
— Все знают, что Фред мой товарищ. Поэтому Гришка и велел мне выступать с обвинительным словом перед партизанским судом. Я старался исполнить свой долг как подобает. Скажите, было ли хоть одно лишнее слово в том, что я говорил, щадил я его?
— Нет, — ответили семьдесят человек.
— Я не старался найти оправдания Фреду, хоть и сейчас люблю его. Мы все его любим. Да и сам он ничего не говорит себе в оправдание. Это доказывает, что он в полной мере сознает свою вину. Фред сам себя осудил. Он совершил преступление, оставил вверенный ему пост. Но так как он сам не ищет себе оправдания, это должны сделать мы. Если суд позволит, я скажу.
Все были согласны. Только Петер ворчал:
— Вот еще, никаких смягчающих обстоятельств!
— Мы все были потрясены трагической смертью Николая. Признайтесь, что никто в то время, как мы хоронили Николая, и не подумал о безопасности отряда. Гришка созвал партизанский совет, членом которого является Фред.
— Являлся, — прервал Петер.
— Является, потому что никто его не смещал. Фред участвовал в заседании совета, хотя должен был сторожить двоих негодяев. Должен был Фред присутствовать на совете или нет?
— Не должен был, — ответили голоса.
— На совете он должен был присутствовать, — сказал Гришка, — но он обязан был выставить усиленный караул и не оставлять подозрительных без присмотра.
— Оставил же, — не унимался Петер.
— Оставил. Но я требую, чтобы при голосовании мы приняли во внимание все, что произошло здесь сегодня. Мы судим сегодня не только Фреда, но и свое легкомыслие.
Больше не говорил никто.
— Голосовать по одному, — объявил Гришка. — Командир отряда имеет право на два голоса.
Голосовало семьдесят человек, остальные были в карауле. Как только их сменят, проголосуют и они. Партизаны подходили к костру, возле которого сидели мы с Гришкой. Гришка записывал, а я считал про себя голоса.
— Смерть…
— Смерть…
— Смерть…
— Смерть…
Семнадцать человек, семнадцать добрых товарищей, уже решили вопрос жизни и смерти. Они произнесли это ужасное слово и сами попали под его власть. Семнадцать! Кто же решится произнести другой приговор? К костру подошел восемнадцатый — Митенька. Он огляделся, как будто хотел видеть всех.
— Разжалование, — сказал он неуверенно.
Эх, широкая, степная, казацкая душа! Это был наш соловей. Какие прекрасные песни он знал, он всегда умел, когда всем было тяжело, поднять настроение отряда. Митенька… Он не любил Фреда, ворчал на него, все ему не нравилось в этом парне. Наш Митя! Он никогда не участвовал в перестрелке, не убил ни одного немца, он не выносил, когда лилась кровь. И не мог стрелять даже в немцев. Ему и самому пришлось уже стоять перед партизанским судом, сам был на волосок от смерти, когда отпустил немца, которого должен был расстрелять. Он сказал свое слово и опять неуверенно огляделся. Неужели он стыдится своих чувств? Боится общего осуждения за то, что заступился за Фреда?