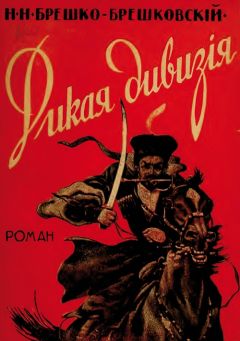Николай Брешко-Брешковский - Когда рушатся троны...
— Долой эту королевскую девку! На нее идут потом и кровью добытые народные деньги… — Долой!.. — взвизгивала Вероника Барабан.
Ближайшие эхом повторили за ней эту гнусность, и полетел в окно камешек, пущенный чьей-то рукой.
Жуткое было зрелище.
И если бы не наряды полиции, если бы не буржуазия, отвечавшая с панелей выкриками ненависти и презрения, можно было бы подумать, что столица уже во власти этого сброда, этой пьяной и в прямом, и в переносном значении сволочи…
А девица Барабан с красным пауком на своей жирной, отвислой груди, вспотевшая, с перекошенным лицом и безумными хмельными глазами все больше и больше разжигала толпу:
— Товарищи, мы не остановимся на полпути! Нет! Мы пойдем ко дворцу и потребуем, чтобы этот угнетатель трудящихся, этот кровопийца Адриан, первый и последний, вышел к нам. Потребуем у него открыть тюрьмы, где томятся наши товарищи, наши славные бойцы за свободу. Потребуем, чтобы вместе со своей потаскухой-матерью он убирался ко всем чертям, пока жив… Пока мы не повесили его там, где трепещет империалистический флаг этих разбойников Ираклидов и где скоро взовьется наше красное пролетарское знамя! Товарищи, крепче сжимайте мозолистыми руками ваше оружие!
Так взывала от хрипоты пересохшим горлом девица Барабан, повторяя одно и то же, перебегая слева направо и справа налево, от головы к хвосту и от хвоста к голове разъяренного тысячеликого зверя. Но когда уже обрисовались контуры королевского дворца, обнесенного высокой стеной и с «империалистическим» флагом над центральной башенкой, девица Барабан сняла с обширной груди своей красный бант и, незаметно вытиснувшись из толпы, скользнув на панель, смешалась с другой толпой — буржуазной.
Давно и след ее простыл, а нафанатизированное ею стадо повторяло:
— Пусть убирается ко всем чертям вместе со своей потаскухой-матерью!..
10. «ПЕШИЕ ОТКРЫВАЮТ ОГОНЬ, КОННИЦА СМЕТАЕТ ЧЕРНЬ…»
Первое мая. Десять часов утра. Знакомый уже нам дворцовый кабинет премьер-министра с мягкой мебелью желтого цвета и с такими же обоями и драпировками.
В присутствии короля и графа Видо Бузни заканчивал свой доклад касательно возможных событий дня.
— Итак, по моим сведениям, коммунисты выбросят самые крайние лозунги, и вообще настроение довольно кровожадное… Как Ваше Величество прикажет действовать? В самом начале разогнать их или когда они выявят злую волю и своим поведением будут грозить общественной безопасности?
— Я думаю так… И граф, и вы, Бузни, надеюсь, согласитесь со мной? — соображая и щуря миндалевидные глаза свои, начал Адриан. — Если их разогнать в самом начале шествия, этим они тотчас же воспользуются и приобретут сочувствие социалистов. Вот, мол, вышли полные самых миролюбивых намерений, а эти ужасные королевские сбиры не дали им продемонстрировать свои первомайские чувства… Если они начнут безобразничать, обнаглеют и распоясаются во всю ширь своего хамства, — тогда показать, что власть может навести твердой рукой порядок!.. И тогда уже не мы, а они очутятся в невыгодном положении…
— Я вполне присоединяюсь к мнению Вашего Величества, — сказал граф, но сказал далеко не решительным тоном. Его «вполне» прозвучало не с убеждением.
— Я слышу какое-то «но», граф?..
— Нет, Ваше Величество, я не имею…
— Однако же?
— Конечно, этих мерзавцев необходимо так хватить по воображению, чтобы надолго закаялись выступать… А с другой стороны, если будет несколько убитых, раненых, даже несколько попорченных физиономий, Англия и Франция поднимут вой.
— Пусть поднимают! Пусть! — ответил Адриан, пожав плечами. — Во-первых, мы не позволим никому, даже великим державам, соваться в наши домашние дела, во-вторых, почему же там не поднимают воя, а, наоборот, молчат, видя, как в Совдепии в течение шести лет систематически уничтожается цвет русского народа? В-третьих же, наконец, мы не будем считаться с мнением Франции и Англии, раз во главе их такие выразители этого «мнения», как Эррио и Макдональд со своими полубольшевиками… Да и сами полубольшевики…
— Золотые, прекрасные слова, но не вступаем ли мы на опасный путь? — усомнился Видо.
— Э, милый граф, мы и так зажаты в кольцо всевозможных опасностей, мы и без того сидим на вулкане, а поэтому отбросим всякую половинчатость. Вы говорите, Бузни, эта милая компания в своем маршруте не забыла и нас и направится ко дворцу?..
— И осмелюсь еще добавить: не исключены возгласы и крики, оскорбляющие Величество.
— Положим, эта рвань не может оскорбить нас, а вот если будет ранен хоть один из моих солдат или полицейских, — немедленно же пустить в ход оружие и, как говорит граф, так хватить их по воображению, чтобы долго не забыли этого дня… Я не позволю посягать на армию. Самые отчаянные головорезы должны уважать, — мы их заставим уважать, — пандурский мундир. Я уже приказал ротмистру ди Пинелли развернуть его эскадрон перед дворцом. В конном строю… — прибавил Адриан. — А вы, Бузни, дайте ему в помощь отряд пешей полиции. Манифестанты могут сколько им угодно упражняться в словесности, но если они перейдут в наступление и, повторяю, если прольют кровь первого гусара или первого полицейского, — пешие открывают огонь, конница сметает чернь…
В полдень красная лавина фальшиво и вразлад певшая «Интернационал», медленно подкатывалась к королевскому дворцу. Настроение этой лавины было самоуверенное, боевое. Еще бы! Те, кто накануне раздавали манифестантам деньги и водку, убеждали их действовать резко. Им ничто не грозит. Войска и полиция не посмеют стрелять даже в том случае, если сами будут атакованы. Сначала все так и выходило. Никто не рассеивал коммунистов, не срывал с них красных бантов, не отнимал портретов Ленина и Троцкого, не топтал испещренных призывами к убийству и грабежу плакатов. Чем ближе ко дворцу, тем сильней разгорались темные инстинкты и все больше и больше наглела стая человеческих гиен и шакалов.
Женщины в такой толпе и в таких условиях всегда более фанатичны, более вызывающи и, самое главное, более отвратительны, чем мужчины. Уродливые, грязные, страшные в своей ненависти, в своей исступленной брани, эти женщины то кулаками, то растопыренными пальцами душительниц грозили полицейским, стоявшим цепью, грозили всадникам, их лошадям, грозили королевским окнам, грозили гибкому древку штандарта.
Каждое слово их было подобно комьям липкой, зловонной грязи. Эти остервеневшие мегеры, эти ведьмы, ведьмы, несмотря на свою молодость, ненавидели этих здоровых, щеголеватых кавалеристов. Не только гусар, стройных лошадей их ненавидели эти испитые женщины с мокрыми подолами криво застегнутых юбок, основательно впитавших в себя миазмы трущоб, — ненавидели так, как ненавидели вообще все красивое, физически чистое, так не похожее на них самих…
И вместе со слюной увядшие рты их с посинелыми губами выплевывали прямо в этот ясный майский блещущий день:
— Кровопийцы! Наемники! Холопы нашего палача Адриана!
— Сколько этот игрушечный офицерик заплатил вам?..
— Будет он болтаться на фонаре со своей молодящейся матерью!…
— Доберемся мы до этого венценосного бандита, доберемся!..
— К черту, всех к черту! Довольно! Сами хотим жить, вкусно есть, пить, одеваться в шелка!
Между головной частью толпы и живым барьером из пеших полицейских и конных гусар не было и пятидесяти шагов. Каждое слово, каждое гнусное оскорбление четко долетало до тех, кого эти мегеры честили наемниками и холопами. Лица под меховыми шапками с медной, а у офицеров золоченой чешуей на подбородке, бледнели от накипавшего гнева. Руки нервно сжимали эфесы кривых сабель. Настроение всадников передавалось и лошадям. Они горячились, закидывались, косили громадными белками, раздували влажные ноздри…
Высокий полицейский чиновник крикнул:
— Ни шагу дальше! Я открою огонь!
Окрик сначала подействовал; передние ряды манифестантов попятились, но угрозы и брань продолжались, не смолкая. Описал дугу камень величиной с кулак и угодил в грудь полицейскому чиновнику.
Толпа загоготала, и ликующий рев, как волной, всколыхнул ее всю. Ротмистр ди Пинелли, обернувшись, что-то бросил из-под усов трубачу.
Рожок предостерегающе, повелительно-звонко прорезал ясный воздух. Лица гусар еще серьезнее, строже. Еще более стали закидываться лошади. Толпа на мгновение оробела, притихла. Но это было жуткое затишье. Что-то сухо щелкнуло, как будто несколько раз. Один гусар, выпустив повод, схватился за лицо, другая пуля ранила в грудь лошадь трубача, и пурпуром окрасилась белоснежная шерсть.
Высокий чиновник взмахнул саблей:
— Огонь!
Полицейские дали залп.
В гуще манифестантов упало несколько человек, но тысячная толпа еще не сознала размеров опасности. Новые выстрелы по гусарам и полицейским уже из коротеньких карабинов, скрывавшихся под платьем.