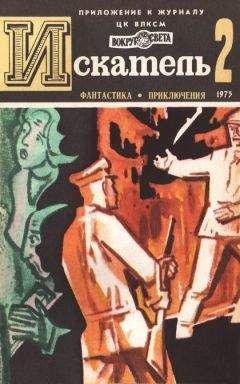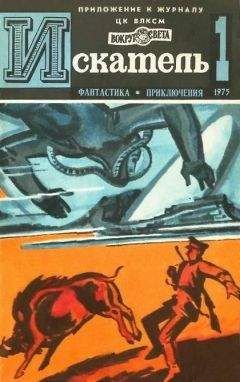Кронштадт - Войскунский Евгений Львович
Василий целый день проработал в доке на клепке, в ушах еще стоял грохот кувалд, и Сашины слова будто из густого тумана доходили до его слуха. После собрания они вместе вышли с завода, и Василий проводил Сашу до дома. Был он, против обыкновения, молчалив, неулыбчив — ну, устал человек, понятно. Саша знала: показывает себя Чернышев на судоремонте, ставит за смену сто сорок заклепок, а то и полтораста. Это понимать надо, сколько сил берет каждая заклепка. Саша понимала.
Не могла только понять, почему после того вечера стал Василий ее избегать. Не приходил в Красный уголок, не поджидал у проходной, даже в столовой не попадался на глаза. Ну и пусть не приходит, не больно-то и нужен, решила она. А все же — почему вдруг исчез, в чем причина? Ничем вроде бы она его не обидела. Наоборот, к сознательности тянула. Вот и пойми… А может, и понимать тут нечего? Девушек на заводе — не она одна. Ну и пусть! Пусть ищет себе девочку гулящую… да штору синюю того окна…
В декабре завьюжило крепко, замело остров Котлин сахарными снегами. Был объявлен субботник — заводскую территорию расчищать. Черными муравьями рассыпались люди по белому снегу, лопатили дорожки к цехам и к докам. Девчата из деревообделочного прогрызались к Шлюпочному каналу, и весело шла работа, хоть и запыхалась Саша и снегу в валенки набилось. Навстречу им от замерзшего канала пробивались сквозь сугробы парни, и один из них, сложив ладони рупором, крикнул: «Эй, деревяшки, куда вкривь повели? На нас прямо держите!» Саша выпрямилась, взглянула, да и не глядя могла бы по голосу узнать Василия. Закричала в ответ сердито: «Сам ты чурбак с глазами!» — «С косыми! — добавила Марийка. — Это вас вбок сносит, а мы прямо ведем!» Засмеялся Василий, подбросил и поймал за рукоять лопату, тоже, гляди-ка, артист, — и пошел копать прямехенько к Сашиной бригаде. Встретились вскоре — у Василия уши огнем пылают, а сам улыбается и говорит:
— Здрасте вам.
Саша ему:
— Чего форсишь в мичманке? Уши поморозишь.
— Нету у меня шапки, — отвечает, мичманку поправляет на черной голове, а шалые глаза блестят и смеются. — Была, да украли.
— Как это украли? — хмурится Саша. — Форсишь просто.
— Пускай, — говорит, — по-твоему будет.
И уж до конца субботника где-то рядом он держался, Саша не глядела, но голос слышала. Кончили работу — опять Василий тут как тут.
— Нам не по дороге, — сказала Саша, выйдя из проходной.
— Немножко провожу, если разрешишь.
И скрипел снег под ее валенками и его короткими порыжелыми сапогами. Сгущались ранние сумерки. Где-то в Летнем саду нехорошими голосами орали ссорившиеся коты. Саша шла молча, и ей вдруг почудилось, что впереди за углом, за поворотом на родную улицу, вместо привычных глазу изъеденных временем домишек, вместо серого здания бани откроется тихая река с пальмами на берегу и их точным повторением в гладкой воде, а дальше пирамида. Такую картинку видела однажды Саша в «Ниве» — ей тогда лет десять или одиннадцать было, — и почему-то запомнилась эта картинка и стишок под ней: «Алеет Нил румяным блеском. / Багряный вал ленивым плеском с прибрежной пальмой говорит». Чего только в голове не застревает — удивительно даже…
Василий прокашлялся после долгого молчания, спросил:
— От Братухина письма получаешь?
— Было одно.
— Как он там, в Питере? В большие начальники вышел?
— В какие начальники? Учится он. В подготовительном училище. На Екатерингофском канале.
— Понятно. — Опять помолчал Василий, а потом: — У нас в цеху красная доска, второй месяц меня там пишут.
Саша плотнее обвязала платок вокруг головы — что-то знобило ее, ноги в валенках были как ледышки.
— Собрание позавчерась было, — сказал Василий. — Начальник цеха выступал — берите, говорит, с Чернышева пример на клепке.
— Молодец, — еле шевельнула Саша задеревеневшими губами. Мысли у нее сбивались. — Пойду я…
А как очутилась дома — не помнила. Утром проснулась от того, что голова будто огнем охвачена, а в голове опять: «Алеет Нил румяным блеском…» Хотела подняться с постели, тут Лиза, младшая сестра, подскочила: «Лежи, нельзя тебе вставать…» И маму зачем-то кликнула. А потом, когда снова очнулась Саша, мама сидела возле кровати на стуле и, далеко отодвинув от глаз, рассматривала градусник, а у двери стоял черноголовый кто-то, и опять не было никаких сил подняться, чтоб на работу идти, и очень хотелось пить…
Больше недели горела Саша, то приходя в себя, то погружаясь в полное беспамятство.
Потом полегчало. Но такая скрутила ее слабость, что пальцем пошевелить было невмочь. Она лежала на спине, глядя на испуганное лицо матери, на выплаканные ее глаза, на белый в черный горошек платок, завязанный под костистым подбородком. Видела губы, выговаривающие разные слова, но слова не все доходили до Сашиного сознания, многие провалились в прорву. «Уж не чаяла, что ты… воспаление легких… Малину достал, а то бы… В Питер он ездил… Чаем с малиной поить, это ж такое дело… Слышь, Сашенька? Давай поверну тебя, банки ставить пора…»
Слушая, как хлопают горячие банки, прилипая к ее спине, тупо думала Саша про малину. Ну, ела она когда-то в детстве. Вкусная была такая ягода, пупырчатая, с соком сладким. Вдруг вспомнила мамины слова, спросила слабым голосом:
— Кто в Питер ездил?
— Как кто — Василий ездил, кто ж еще, — услыхала над собой голос матери. — Ты, Сашенька, тихо лежи… Василий тебя и домой привел, совсем больную… И каждый день он тут… Ну вот, последнюю, теперь накрою тебя, и лежи тихо… Кабы не он, я не управилась бы, такая болезнь страшенная… То лекарство достать, то дров наколоть, а то еще что… Хороший он человек…
Еще время прошло — стала Саша подниматься, читать, по комнате ходить. Василий заявлялся — она помалкивала, разве что о заводских новостях спрашивала. Однажды пришел он вечером, сел рядом с Сашей на диван, взял из ее рук книжку, прочел название:
— Семен Подъячев. «Бабы». — Спросил, взглянув на Сашу: — Это как понимать?
Она пожала плечами, не ответила. Мать на кухне стирала.
Василий выставил из комнаты Лизку с ее любопытным носом. Взял Сашины прозрачные после болезни руки в свои, сказал тихо:
— Никого у меня нет дороже. Одна ты… на всем свете… Выходи за меня…
Он поднял ее голову, поцеловал закрытые глаза, потом прижался губами к губам.
Поженились они в январе.
— Вот, Речкалов. Кто таков был Чернышев? Босоногий пастух, нечесан, неграмотен, темнота! — трахнул Чернышев по столу ладонью. — А стал кем? Не последний в Кронштадте человек, а? Кум королю, сват министру!
— Полно тебе, Василий, — говорит Александра Ивановна.
— На слете стахановцев всех морей, знаешь, как Чернышева хвалили? То-то! Вон стоит патефон с пластинками — ценный подарок!
— Перестань, говорю, — повысила голос Александра Ивановна, и Чернышев взглянул на нее с удивлением. — Налей-ка мне еще.
— Ай да Саша! — схватил бутылку. — Ай да жена! Вот это по-нашему! Ну-ка, держи…
Выпила Александра Ивановна медленно, до дна. Сморщилась, потянулась вилкой к капусте. Глаза ее расширились, заблестели. И вдруг негромко, будто пробуя голос, запела:
Голос ее замер было, но тут Чернышев подхватил:
Теперь и Речкалов вступил, без слуха, но сильно.
Ладно пошла песня. Голос у Александры Ивановны окреп, налился былой чистотой и звонкостью. Чернышев повел с басовым раскатом:
Тут и Надя встрепенулась, вскинулась и высоким своим голосом ввысь устремилась.
И уж так слаженно довели песню до конца, что хоть снова заводи: