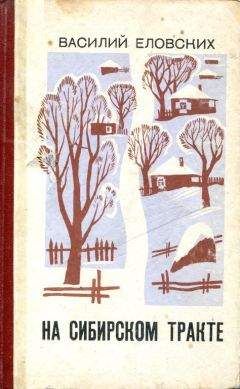Василий Еловских - В родных местах
На том месте, где сейчас школа стоит — видал, поди, когда шел? — там пустырь раньше был. Так вот, сойдутся, бывало, мужики и бабы туда, телегу выкатят и давай с нее речи говорить. Кто во что горазд. Мели Емеля — твоя неделя. Стока речей Каменка, наверное, и за сотни лет не слыхала. Не поглянется оратор — за ноги стягивают с телеги. А ежели ругаться начнет, увозят вместе с телегой за оглобли куда-нибудь в сторону. Смехотура, ей-богу?
И больше всех говорил Дмитрий Решетников. Он уже в волисполкоме заправлял, председательствовал там. Глотка у него прямо-таки луженая была, голосина, как колокол — бум, бум. И, знаешь, так это гладко, здорово у него получалось и насчет мировой революции, и насчет ига капитализма и всего прочего. По его выходило: не сегодня, так завтра вспыхнет мировая революция и на всей земле настанет царство коммунизма.
Тогда продразверстка была. А это значит, всякие излишки хлебушка и других продуктов отдай государству. А что такое излишки, это всяк по-своему понимает. И продотрядники тоже разные были. Кое-кто и с гнильцой. По ошибке попадал. У таких один разговор: выгребай и отправляй весь хлеб или, дескать, в царство небесное тебя самого отправим. Но у нас в волости Дмитрий этих дуростей не допускал.
С виду-то все вроде бы уважительно к нему относились, даже кулаки. Но с кулаками тут фальшивинка… И она выявилась сразу же, как только в двадцать первом году начался мятеж кулацко-бандитский. И скажи, до чего тонко и ловко все сработано было у них, слушай. Нас, четверых коммунистов, они взяли ночью, в одну минуту. Сперва волокли по улице, дубасили и ругали почем зря. А потом всех швырнули в хлев. Закрыли на замок и часового выставили.
Оказывается, в других-то волостях бандиты еще с прошлой ночи шебаршить начали.
— Конец вашей коммунии! — кричат. — И всем вам крышка, в печенку вас, в селезенку!
В крови мы все. А Дмитрий, тот и вовсе на ногах не стоит — так ухайдакали его, когда он от троих отбивался. И, возможно, не дался бы, да не знал, не гадал, чего они замыслили. Пришли, постучали. Чин-чинарем вроде бы: открой, дескать, побалякать надо по делу.
Он и впустил их. А они в сенях-то, в темноте и хлобызнули его по голове чем-то. Так волоком, за подмышки и протащили до хлева. Лежит, еле живехонек, чую, а не стонет, зубами только поскрипывает.
Февраль двадцать первого года по всей Западной Сибири холоднющий был — жуть. Прижались мы друг к другу, слушаем, как ветерок посвистывает да доски на потолке от мороза потрескивают, и думаем: видно, еще до рассвета околеть придется.
В полночь, слышим, люди подошли к часовому. Голоса какие-то.
— Крикни им, — хрипит Дмитрий, — крикни им, сволочам, чтоб открывали. А то всех поставим к стенке.
Ну я не стал шибко-то выражаться, ишо кто кого поставит. А сказал:
— Что ж это вы, робята?.. Рази можно председателя волисполкома и коммунистов под арест сажать и избивать будто конокрадов иль там убивцев каких.
— А вы хуже конокрадов и убивцев, — отвечает какой-то мужик.
Это был Санька Мухин, как мы потом выяснили. Кулак из деревни Демино. Один из главарей бандитских. Он ближние деревни объезжал, людей баламутил да науськивал. Здоровенный такой, дубина.
— Откомандовали, товарищи комиссары! — кричит этот самый Мухин. — Хватит вам измываться над крестьянами, кровушку крестьянскую пить. Судить вас будем. Только по нашему мужицкому закону.
Конечно, трепался он. Повидали мы их закон. Коммунистов они и в прорубях топили, и водой на морозе обливали. Звезды на теле вырезали. А одну коммунистку положили на козлы и распилили живую. Я не выдумываю. Да ты, поди, и сам слыхал… Ну так что же дальше было.
— Вся Сибирь сегодня восстала, — орет Мухин. — Тобольск, Омск и Тюмень уже в наших руках. Завтра вся Россия восстанет.
— Врешь, сволочуга! — кричит в ответ Дмитрий. — Завтра ты по-другому заговоришь, бандюга!
Услыхал Мухин Решетникова и фальшиво так это запел:
— Не хорошо, товарищ председатель, над простым мужиком измываться. Чиновники царские и приставы всякие над нами измывалися. Офицерье колчаковское тоже измывалось. А теперь вот вы. Где ж правду-матку найти мужику простому?
И в голосе Саньки — злорадство. Ух, как нехорошо мне стало. Дело прошлое, и признаюсь тебе, парень, все поджилки затряслись тогда у меня. Молоденький ишо был — неохота подыхать дури-ком-то.
— Отпустите, — говорю, — нас. Ну куда мы убежим? А то застынем тут до утра-то.
— Да пошто, поди, — ехидничает Санька. — Вы ж как у Христа за пазухой жили. Отъелись на наших хлебах-то. Пузы отростили вон какие. Вам и морозы нипочем.
Стали мы требовать, чтоб нас перевели в избу. Да где там!
— Ничего, в хлеве заместо скота теперь поживите.
И тут Решетников вовсе разозлился и стал бить о стену ногами.
— Кончать, так кончайте, контры! — кричит.
Но Мухин уже ушел. А один из мятежников спокойненько так и говорит нам:
— Подыхайте, коммуния, быстрее, а то завтра в Иртыш, в прорубь живьем сунем.
После такого милого разговора совсем дрянно на душе стало. И ишо вроде бы холоднее. Кажись, никогда в жизни не видывал я холода такого, какой был тогда перед утром. Градусов под пятьдесят, наверно, не меньше. Ну нет мочи терпеть. На троих шинелешки истрепанные. И на одном только полушубок. Хотел он поменяться с Дмитрием на его шинелешку, да где там.
— А вы бегайте, ребята, — говорит Дмитрий, — боритесь, а то застынете.
Стали мы возиться и греться, хоть и ноги не держат.
Со двора часовой орет:
— А ну-ка тихо! А то стрельну вот.
Они, часовые, не поймешь, когда менялись. Какие уж там были воины, ядрена палка. Поставили на пост Петра Корастелева. Так, обыкновенный был мужик. Молодой ишо. Середнячок. С кривыми ногами. И с кривым носом. Только тем и выделялся, что сумел захватить в женки самую баскую каменскую девку. И как ему это удалось, черт его знает.
Топает и кряхтит Корастелев возле хлева, а Дмитрий и говорит ему:
— И ты, Петро, к бандитам переметнулся?
— Замолчи! — отвечает тот. — А то прикончу тебя, гадина. Я повстанец, а не бандит.
— Не грози ты мне смертью, — шепчет ему Дмитрий. — Разве я был когда-то трусом? Скажи лучше, чего ты с ними спутался?
— А чо мне дала твоя власть? — противоречит ему Корастелев. — Я прежде хоть хлебушка вволю жрал. Честь по чести жил. А теперь вы заместо хлебушка сладкими речами нас потчуете. Хватит уж, кончено с вами. Вся Сибирь повстанцами взята. И везде по Россеи восстанья. Коммунистов и комиссаров к ногтю.
Дмитрий хохотнул даже. Вот ведь, живого места на человеке не было, замерзал почти, а хохотнул.
— Что это ты молотишь? Так и есть — взяли! Чем бы вы это взяли-то? У вас ведь только вилы да топоры? Ну еще ружьишки охотничьи.
— А взяли! — орет Корастелев.
— Не буровь! — говорит ему Решетников. — Вчерась утром мне бумагу из губисполкома прислали. В столе она лежит. Можешь поглядеть. Там нет ни слова о мятеже. Конечно, вы изведете нас поутру, это я знаю. Только учти, через несколько дней придет наша армия и тогда всем вам крышка. И тебе тоже, Петро. А Красная Армия, она и Колчака, и Врангеля, и всякую контру уничтожила. Вон кака силища была. А вы что — букашки-таракашки. Скоро не только с вами, а и со всем мировым капиталом пролетариат разделается.
Вот такую, значит, он речь ему закатил. А Корастелев и говорит: армия к повстанцам перебежит.
— Ну, знамо дело! Так вся армия на сторону каменских бандитов и побежит.
В общем, долго они так вот убеждали друг друга. Решетников спокойненько, с ехидцей даже. Если б ревел он или угрожал, тут едва ли был бы какой-то прок. А то насмешничает. И что же дальше. Постоял-постоял Корастелев и придвинулся к двери. Шепчет:
— Говоришь, все равно армия придет?
— А что, вам тут бандитское царство дозволят создавать?
— Ну я в случае чего в кусты уйду. Я человек темный, щи лаптями хлебаю, с меня какой спрос.
— Все равно на мушку возьмут, — пугает Дмитрий. — Так что последние денечки живешь. И зря торчишь тут колом. Шел бы к своей бабе. Она ведь у тебя вон какая краля.
Покалякали-покалякали они таким вот макаром, и Корастелев говорит:
— Слушай!.. Вот что… А ежели я вас выпущу, возьмете меня с собой?
— Возьмем, — отвечает Дмитрий.
— А бабу мою возьмете? Боюсь я ее оставлять тут.
Прямо скажем, баба его нам в таком деле была совсем ни к чему. Лучше мешок с картошкой переть, чем жену его волочить за собой. Но делать нечего.
— Ладно, — говорим, — возьмем и ее.
— А не объегорите? И вы запомните, что это я вас… И деньжонок бы мне потом. Хочу, чтоб у меня дивно денег было.
Слышу, Дмитрий даже застонал от злости. А я Дмитрию:
— Да обещай ему, окаянному, хоть короб золота.
Ну, сговорились мы, в общем, отбил Корастелев замок — ключа у него не было, и задами пробрались до своих домов. Быстренько лошаденок двух запрягли, попрощались с женами и ребятишками, бабенку корастелевскую прихватили и погнали на запад.