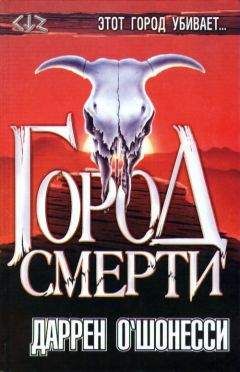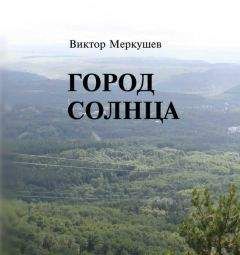Сигурд Хёль - Моя вина
Свет от настольной лампы падал на его лицо. Лицо у него было правильное, красивое — я слыхал об этом, да и сам понимал. Оно было усталое и замученное. Этого я не видел. Я видел только, что вот передо мною мой отец, старый, старый человек, которому скоро стукнет пятьдесят.
Он сидел так, что свет от лампы падал на его лицо, а я оставался в тени (он не читал Шерлока Холмса. А я читал). Я заметил, что ему неловко, и тотчас же мне самому сделалось неловко, хоть дурные предчувствия не оставили меня.
И вот он взял себя в руки — я заметил, что он взял себя в руки, — и повел со мной беседу об этом.
Я уже не ребенок — не совсем ребенок, поправился он. Мне предстоит жизнь в столице, самостоятельность, я буду сам себе хозяин. Он мне доверяет, у него нет оснований мне не доверять. Так он сказал.
Я думал: если б он только знал.
Кичливо и заносчиво, замирая от детского страха и надменности, я так думал.
— Хм! — выговорил он. И потом еще раз, будто подбадривая самого себя: — Хм!
Так вот, значит, так вот… Столица полна соблазнов. Пьянство, ну, однако ему кажется, что тут он может мне доверять?
Я кивнул. Я тоже считал, что тут он может мне доверять. Я никогда не пил больше одного стакана. Я пробормотал что-то, выдавил из себя что-то, означавшее, что тут он может мне доверять. Я заранее знал, к чему он клонит, и мне было неприятно, то есть, верней, мучительно стыдно — за него ли, за себя? Не знаю. Знаю только, что одновременно с облегчением (ведь выяснилось, что речь шла не о моих проступках) я подумал: вот еще раз подтверждается старая истина — если отец хочет поговорить с тобой, добра не жди. Потому что все вместе было безобразно мучительно и стыдно — стыдно и ему и мне, мучительно и ему и мне. Я вспотел от стыда, мне хотелось забиться в самый темный угол, и я видел, что ему бы тоже хотелось забиться в темный угол, и только понятие о достоинстве останавливало его.
Однако он пересилил себя. Это было необходимо. Это был его долг.
Конечно, я слышал — тут он отвел глаза, — что в столице есть женщины легкого поведения. Опасные женщины. Женщины, которые всегда готовы соблазнять и совращать таких, как я.
Я опять выдавил из себя означавший подтверждение звук и чуть не расхохотался громко — главным образом от неловкости, но не только. Я вдруг в мгновение ока понял или нет, не понял — почувствовал, что он по меньшей мере так же несведущ, так же неопытен, так же неискушен, как я. И мне вдруг показалось, что я — взрослый, а он дитя. Впервые мне пришла в голову мысль, что это так, именно так. Я ощущал себя старым, пожившим, многоопытным в сравнении с ним, пока он проповедовал мне мораль, а обучал меня житейской премудрости, и не смел глянуть мне в глаза.
И еще одно мешало мне, пока я стоял и слушал; мысль возвращалась и возвращалась, словно докучная муха, которую невозможно прогнать.
Я думал о том, что нас с ним связывает запретный, знобящий секрет.
В то лето одна удивительная книга попалась мне на глаза. Она не стояла на полке, как полагается стоять приличной книге; она была засунута позади других. «Голод» — называлась эта книга. «Голод» Кнута Гамсуна.
Я заглянул в нее, начал читать. Но почти сразу же я понял, что надо взять ее с собой, и поскорее.
Я читал ее под яблоней в саду, приткнувшись к разлапой сосне на опушке или забившись в угол на чердаке. Она взбудоражила меня необыкновенно. Я забредал далеко в лес, где никто не мог меня видеть и слышать, и шептал березовым стволам: «Илайяли![20]»
Я не знал, что бывают такие книги. Но одно не давало мне покоя: отец купил ведь эту книгу, и он читал ее, и поставил ее за другими книгами, чтобы никто из нас, детей, не смог отыскать ее и прочесть, — это понять было нетрудно. Однако он ее не сжег. Что же, он вытаскивал ее время от времени и читал тайком, вот как сейчас я?
Мой отец! Я был потрясен. Я чувствовал себя так, словно поймал его за бессовестным подглядыванием в наши карты. Помнится, я думал: нельзя ему читать такое!
Такие книги, собственно, следовало бы не давать родителям.
Обо всем этом я думал, слушая его тогда. Однако же я выдавил из себя тот означавший подтверждение звук.
Он не спросил: «Вот как? Откуда ж ты это знаешь? Про опасных женщин? Откуда ты вообще знаешь про такие вещи? Только не от меня!»
Конечно, что правда, то правда. Только не от него. Он впервые говорил со мной про такие вещи.
Но он ничего этого не спросил. Он обрадовался означавшему подтверждение звуку и поспешил дальше. Тут-то он и произнес это слово. Блудница вавилонская…
— Да, бывают и блудницы, проститутки. Но, пожалуй, еще хуже — хотя что может быть хуже! — пожалуй, еще хуже те женщины, как он уже сказал, женщины легкого поведения, недостойные женщины, которые готовы отдаться первому встречному.
Он покачал головой. Верно, столица представлялась ему почти Содомом и Гоморрой, где живут в основном шлюхи и проходимцы. И почти каждый болеет сифилисом.
Он говорил еще о распущенности и нечистоте нравов и о том, что из этого следует — о грехе, горестях и болезнях — отвратительных болезнях, как он выразился. Конечно, он бы прав. И я знал, что он прав, и знал, что знаю это гораздо лучше его: не меня ли мучили постыдные желанья, не я ли ворочался с боку на бок по ночам, терзаемый томленьем и страхом, томленьем и страхом… О, мне было трудно. И мне ни разу ни на мгновение не приходило в голову, что и ему могло быть так же трудно. Как? Ему, моему отцу? Христианину и всякое такое? Немыслимо.
Но он читал «Голод»…
Болезни… Я содрогнулся. И все-таки я думал: «Поскорее бы он кончил, поскорее бы он кончил, кончай же, кончай!»
Он кончил, наконец, и услышал еще один означавший подтверждение звук и облегченно вздохнул — я заметил, как он облегченно вздохнул, — и сделал жест: это все, ступай. И я повернул ему спину и выскользнул из кабинета, и мне по-прежнему было стыдно. За него ли, за себя? Кажется, я сам не знал. Но я знал: тверже, чем прежде, яснее, чем прежде, что когда отец собирается говорить со мной — это не к добру.
Я постоял немного в темной прихожей. Но слишком близко был кабинет. Я вышел во двор. Был темный, мягкий августовский вечер, и звезды большие, яркие. Я вздохнул глубоко, несколько раз. А потом засмеялся. Отчего? Оттого, возможно, что меня все еще мучил стыд. И чтобы от этого стыда избавиться.
Я ощутил облегченье и одновременно чувство вины. Облегченье — потому что неприятное позади. А чувство вины — потому что — ну да, почему же? Верно, из-за собственного облегченья…
И смеяться было неуместно, я слишком понимал это. Так чувствует себя ученик, корчащий гримасы за спиной учителя, и, верно, так чувствовал себя тот лесоруб, с которым я однажды сидел рядом в церкви. Он тихонько ругался, чтоб произвести впечатление на своих приятелей. На меня он, помнится, тоже произвел впечатление. Но я понимал, что он ругается, а сам думает: «Интересно, накажет меня господь или нет?»
Мне же и не перед кем было хорохориться. И, тем не менее, я стоял и хохотал в лицо тихому августовскому вечеру и самому себе казался клоуном, а звездное небо, строго насупясь, глядело на меня.
Мысли, одна другую исключающие, проносились у меня в мозгу так быстро, что я не успевал ухватить их за хвост и удержать.
И вдруг я понял, что я перепуган. Да, мне было страшно. Ведь он — ну да, ведь, наверное, он прав. Он же старый, старый человек, и, конечно, он знает много такого, о чем я не имею понятия, хоть и обыгрываю его в шахматы и лучше разбираюсь в ботанике.
Haдo быть поосторожней.
Опять мне вспомнился лесоруб. Пока я сидел рядом с ним в церкви, я думал, что случись чудо, упади ему на голову балка — или нет, не надо никакого чуда, просто разруби он себе через неделю ненароком ногу, а там — заражение крови и близкая смерть, ведь забудет же все свои ругательства и непременно пошлет за пастором — черт побери, бегите же за пастором, да поскорее, чтоб вам ни дна ни покрышки!
Как все запутанно, сложно! Я попытался еще вздохнуть, и снова мне стало легко и стыдно, и я ощутил свою вину и был рад, как-то особенно рад, что завтра уезжаю.
Не знаю, сколько времени длилось это воспоминание. Верно, несколько секунд. И вот я снова в своей превосходной комнате, и отец тихонько и терпеливо сидит в кресле.
«Как он постарел!» — подумал я.
И тут же я подумал о другом. Слова, которые он говорил мне тогда, не были брошены на ветер. Те слова меня перепугали. Они засели в подсознании дурным предвестием и угрозой. Блудница вавилонская! Женщины легкого поведения! Отвратительные болезни! Горести, болезнь, погибель!
Годы ушли на то, чтоб избавиться от них, от этих слов, и начать жить своим умом.
Теперь-то я от них избавился. Совершенно избавился…
Отец слегка изменил позу. Он подыскивал, о чем бы заговорить.
— Ну, а с занятиями — все в порядке? — спросил он.