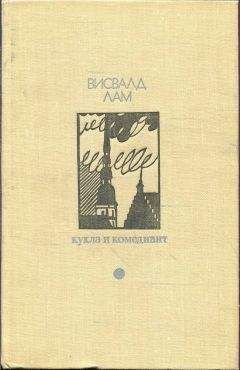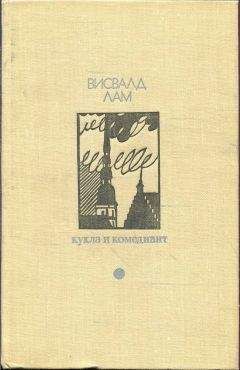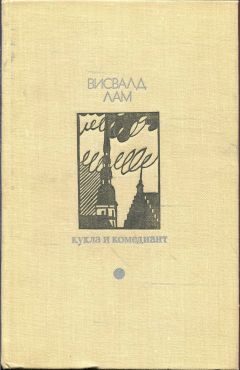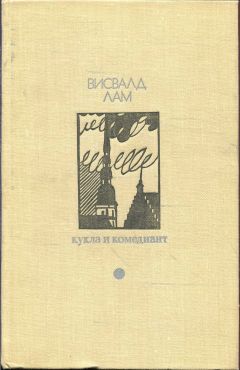Павел Кочегин - Человек-огонь
— Не своя воля, едрен корень, — тяжело вздохнул Пастухов.
— Воя, воя! — передразнил Заячья губа. — Ты шо, пивязан? Как начнет синеть — поднимайся и иди. На том беегу тебя встетят. Пево-напево — две чавки водки, фунт ковбасы и два фунта хвеба. А там иди, куда хош…
— А в спину пулю…
— Все пойдут, некому будет ствевять.
Заячья губа сунул Пастухову тоненький ломтик колбасы, кусочек хлеба и щепотку махорки. Не успел Пастухов поблагодарить, как тот уже скрылся.
В соседнем окопе красноармеец попытался задержать провокатора, но удар ножом в живот заставил навеки умолкнуть бойца…
3…Штаб бригады расположился на краю деревни, в небольшом пятистеннике.
После недельной голодовки, сегодня за ужином пир горой: лепешки из отрубей, мерзлый картофель, кипяток из самовара.
Николай Дмитриевич сидит на лавке в переднем углу, слева от него Павел, справа — Аверьян.
— Чего замешкались? Не отставать! — шутит Томин, беря горячую картофелину.
— Догоним, товарищ комбриг, — ответил Аверьян.
Хозяйка глядит из кути и дивится, с каким аппетитом едят военные отрубные лепешки и сладкий картофель без соли.
— Хорошо! Ни соли, ни сахара не надо, — шутит Николай Дмитриевич, — все тут.
Быстро управившись со своей порцией, Паша облизнул губы и довольный хлопнул себя по животу:
— С таким приварком меньше хлеба идет!
Все засмеялись. Вторя взрослым, залились колокольчиком на полатях ребятишки, девочка и мальчик — погодки.
Пока хозяйка разливала чай, Аверьян вынул из полосатого мешочка три кусочка сахара, положил на стол. У ребятишек заблестели глаза, они глотнули слюну.
— Передай, Аверя, мой пай ребятишкам, — попросил Томин.
— И мой, — протянул руку с сахаром Павел.
Аверьян расколол свой кусочек пополам и наградил ребятишек сладостями поровну.
— Правильно, — одобрил Томин. — Ребятишкам сахар полезен. А нам, старикам, без толку.
Самому «старику» шел тридцать третий год.
Полночь… Разморенный теплом, крепко спит на верхнем голбце Аверьян. Павел ворочается с боку на бок на нижнем.
Николай Дмитриевич, склонившись над картой, сидит в горнице. Перед ним лампа-трехлинейка. Подперев одной рукой щеку, комбриг время от времени делает отметки на карте и тихо напевает:
Эх, товарищ, и ты,
Видно, горе видал…
«Все на запад, все на запад, — с тоской думает он. — Где же конец отступления? А как отход, так Осташковский полк недосчитывает двух-трех десятков красноармейцев: дезертируют, домой тянет. Рабочих в полку почти нет, все — крестьяне, среди которых немало кулаков — лютых врагов Советской власти. Работники особого отдела прибрали несколько провокаторов, зато оставшиеся стали ловчее, сеют смуту исподволь».
А тут еще в Москву на курсы уезжает Виктор Русяев. Этот был испытан в боях и походах, на него Томин мог положиться, как на самого себя. А кого дадут?
К тревоге за судьбу бригады у Томина в последние дни прибавилось личное: дошли слухи, что казачьи атаманы грозят расправиться с женой.
За окном забрезжило. Томин взглянул на золотые именные часы. Дверь распахнулась, и в дом вошел начальник штаба Русяев.
— Пришел попрощаться, Николай Дмитриевич, — с грустной улыбкой проговорил Виктор.
— Бросаешь меня? Ну, Витюша, доброго пути, — пожелал комбриг и обнял друга.
Раздался телефонный звонок.
— Измена! — услышал Томин тревожный голос Нуриева. — Осташка белым пошла!
— Русяев! Кавэскадрон в брешь! Дальше действуй по обстановке, — застегивая на ходу шинель, распорядился Томин.
Ординарцы пулей выскочили из избы.
В неподвижной дымке утра Томин заметил маячащие фигуры в шинелях. Удар плетки прибавил резвости Киргизу, и дезертиры стали быстро приближаться. Вдруг — пулеметная очередь. Конь Аверьяна споткнулся, ординарец кубарем полетел через его голову. Гибин вскочил, схватился за гриву коня Нуриева, который скакал сзади, и побежал дальше.
Перемахнув через пулеметное гнездо, Томин, спрыгнув с коня, отбросил от пулемета прислугу, развернул его в сторону дезертиров, нажал на спуск.
Пулеметная очередь прижала изменников к земле.
Подскакали Гибин и Нуриев. Они припали к пулеметам, а Томин с Ивиным помчались к цепям.
— За мной! В атаку! — скомандовал комбриг, оказавшись впереди перебежчиков.
Цепи поднялись и с криком: «Ура-а-а!» — покатились на вражеские позиции.
В деревне, отбитой у врага, захвачено много оружия, боеприпасов и продовольствия. Впервые за страшные дни отступления красноармейцы наелись досыта.
Полк сняли с передовой.
Томин быстро идет перед шеренгой, мечет холодный взгляд на притихших бойцов. Вот комбриг остановился около Пастухова, пристально посмотрел в глаза.
— Попутал, нечистый попутал, — бормочет Фрол Ермилович. — Как защекотало у меня в носу колбасой да махорочкой, словно бес под ребро ткнул: — Иди!.. Прости меня, старого дурака, сынок, прости, — и с этими словами красноармеец бухнулся Томину в ноги.
— Встать! Я не ваше благородие! — зло крикнул Томин, взбешенный таким унизительным поступком.
Он вырвал из рук Пастухова винтовку, снял с него ремень, сорвал с шапки пятиконечную звезду.
— Иди! Вдоволь отведай колчаковской колбасы. Когда вернешься, всем расскажешь, чем она пахнет.
Пастухов медлит.
— Иди! — сурово приказал Томин.
Сгорбившийся, жалкий, Пастухов побрел вдоль строя.
— Кто еще хочет колчаковской колбасы — идите!
Строй не шелохнулся.
Только к полудню вернулся начштаба с передовой. Обращаясь к Томину, Виктор без сожаления сообщил:
— Товарищи уехали. Подожду до следующего набора.
4С каждым днем все тревожнее становилось в Куртамыше. Люди ложились спать, не зная, что их ожидает утром: колчаковский застенок или смерть.
Приуныл рабочий люд слободы. Только глаза не могли скрыть ненависти к вешателям и насильникам.
В лесах и балках собирались партизанские отряды, батраки и сельская беднота копили силу на супостатов.
Да и кержаки окрестные не с Колчаком стали! Вот тебе и «несть власти, аще не от бога». Метались контрразведчики по раскольничьему селу, выискивали смутьянов — тщетно! Молчал кержак, а налогов не платил, хлеба и скота не давал: «Нет!» А раз кержак сказал: «Нет!», не выколотишь.
Прибыл карательный отряд каппелевцев. Новая волна белого террора покатилась по селам. Кряхтел мужик под плетьми и шомполами, но молчал, только еще сильнее в душе разгоралась ненависть.
Тревожными вестями с надвигающегося неотвратимо фронта шепотом делятся в купеческом доме за преферансом местные воротилы. Да и вокруг самого Куртамыша — тревожно, пожалуй, лучше и не выезжать!
Буржуазия недовольна работой своих кровавых лакеев — местной полиции и карателей.
Только напрасно перепуганные толстосумы сетуют на них: пластаются — руки по локоть в крови!..
Ночь…
В стороне от юргамышского тракта, у опушки рощи, плотно прижавшись плечом к плечу, стоят девять узников.
В центре Яков Максимович Другов. Левой полой короткого, дубленого полушубка он прикрыл щуплые плечи рядом стоящего подростка. Раздетый и босой паренек дрожит, слышен дробный стукоток зубов.
Рядом с отцом — Владимир Яковлевич Другов. Он в шинели, накинутой на плечи.
Слезами блестит в лунном свете наледь на березах. Вдали, над темным гребнем соснового бора, тихо ползет луна — холодная, равнодушная.
В звенящей тишине щелкнули затворы. Каратели навели винтовки. Всхлипнул подросток, пригретый Друговым. И снова зловещая тишина.
И вдруг тишину потряс сильный голос Владимира Другова, он запел:
Вставай проклятьем заклейменный!..
Могуче и грозно примкнул к нему голос отца:
Весь мир голодных и рабов…
Грянул залп…
Словно подкошенные, упали юные безвестные герои. Медленно опустилось на холодный снег грузное тело Якова Максимовича Другова. А Владимир Другов, покачнувшись вперед, продолжал стоять.
Подняв над головой правую руку, он громко прокричал:
— Вы еще стрелять не умеете, палачи! Научитесь сначала стрелять, гады!
Раздался второй залп. А Владимир Яковлевич все стоит.
Суеверные солдаты перепугались: завороженный большевик-то! Опустили винтовки, попятились назад.
— Пли! — визгливо командует офицер.
Солдаты ни с места.
Офицер выхватил винтовку у солдата и одну за другой всадил в тело Владимира Яковлевича три пули, а он… стоит.
Белогвардеец подбежал к Другову, ударом приклада по голове сбил его с ног.
Две недели каратели не разрешали родственникам хоронить убитых. Смотрите, мол, всем, кто пойдет за большевиками, будет то же самое. Хотели запугать трудовой народ.