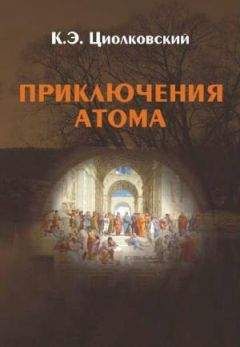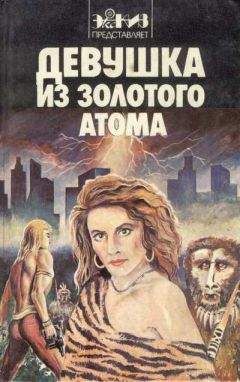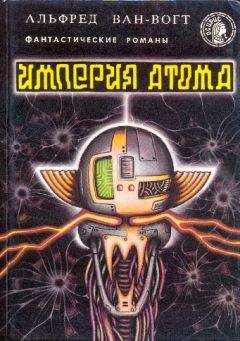Георгий Березко - Сильнее атома
Но теперь ротный хор весь одновременно подхватил песню. В полную силу солдаты со свирепой решимостью, будто бросаясь в огонь, грянули:
Поздно вечером стояла у ворот, Глядь, по улице стрелковый полк идет!
Командующий послушал, покосился на Парусова и промолчал. У каждой роты в полку имелись свои разученные для походов песни, и это стало в конце концов предметом особого соревнования. Песни разыскивались в других частях, их списывали у друзей, привозили из отпуска, из командировок. И опять-таки наибольший успех, победа в этом песенном состязании досталась все той же девятой роте. Елистратов на фронте еще, вернее, в прифронтовом госпитале услышал от соседа по палате и записал мало кому известную в то время песню о защитниках Брестской крепости. Впоследствии он разучивал ее на мотив «Под взрывами частых гремучих гранат…» с каждым новым пополнением, приходившим в роту. И ее, эту песню, и запели сейчас его солдаты. Булавин, у которого был резковатый, но сильный бас и великолепный слух, точно, под ногу взял:
Ревут самолеты, и танки гремят, Дымится гранит опаленный, Врагу не сдаются тринадцать солдат — Последних бойцов гарнизона!
И Елистратов, повторяя заключительные строчки и не слыша своего голоса, потонувшего в общем хоре, успокоенно подумал, что песня началась на редкость ладно, стройно, «от сердца».
На стенах грохочет разрывов гроза, Дрожит под ударами камень…—
с маршевой отчетливостью, весело пел Булавин. И равномерно, согласно, будто аккомпанируя ему: раз-два, раз-два, — били в утрамбованную землю крепкие ноги.
Но, раненный дважды, зовет комиссар: «На стены, за мною, под знамя!» —
без натуги выводил запевала. И вся рота под ногу, дружно, как бы с радостью освобождения, ударила:
Но, раненный дважды, зовет комиссар: «На стены, за мною, под знамя!»
Песня пелась так, как, по мнению Елистратова, и надо было петь солдатскую песню — с лихостью, с вызовом, с железной стройностью; иного исполнения он и не желал. Приближаясь к трибуне, слыша позади грузный, ритмичный топот ног, вдыхая жаркий воздух, пахнувший разогретыми телами, старшина сам чувствовал нечто подобное самоотверженному упоению. И пел он сейчас не об одних героях Бреста, до конца выполнивших свой долг верности, но как бы и о себе самом и о своей роте, как бы присягая на верность и за себя и за весь полк. Чудесным образом он обрел наконец возможность выразить то именно, на что у него никогда не находилось слов, — свою готовность повторить подвиг, высшая красота которого опалила некогда его душу.
Умеют геройски за честь умирать Простые советские люди… —
пропел Булавин так весело, что было понятно: этот юноша поет не о смерти, о которой ничего еще не знает, но о завидной человеческой участи. И, обратив к командирам исказившееся от старания лицо, не столько пропел, сколько прокричал Елистратов своим огрубелым, проржавевшим голосом:
А кто за Отечество мог постоять, Отечество тех не забудет!
И с мрачным восхищением выпел эти слова самый молодой офицер роты, лейтенант Жаворонков. Круглое лицо его с кокетливыми полубачками выглядело надутым от суровости и решимости. Откинув голову, расправив грудь и ощущая себя несомым на крыльях, он подходил к трибуне. Там прекратился шумок разговоров. Генералы, стоя в положении «смирно», держа руки у козырьков своих раззолоченных фуражек, безмолвно слушали. Нельзя было сказать, что песня поразила их, — эти немолодые люди достаточно много знали и о солдатской доблести и о человеческих слабостях. Но она вызывала у каждого самые чистые воспоминания, она молодила, бодрила, хотя в ней пелось о страданиях и о смерти. Голубые глаза командующего сияли открытым, детским удовольствием. Когда песня оборвалась и на плацу некоторое время был слышен только ослабевший топот ног — рота удалялась, — он со всей искренностью проговорил: — Красавцы! Гордо прошли! И затем добавил со светлым жестоким прямодушием: — Скомандуй им сейчас в атаку — сметут! Он приказал вызвать к себе командира девятой роты и громко, на весь плац, поблагодарил его. Капитан Борщ, при-мчавшийся со всех ног, вытянулся у подножия трибуны, взмокший от пота, — лишь в эту минуту не слишком избалованный судьбой капитан понял, что инспекторская проверка началась для его роты более чем хорошо. Парусов, стоя наверху, с несколько принужденным видом кивнул капитану — он не мог простить ему своей же недавней несправедливости. Тотчас же после марша полк был построен в линейку. Офицеры покинули свои подразделения, отошли в сторону, и члены инспекторской комиссии опросили солдат, нет ли претензий или жалоб. Их не оказалось. Затем на плацу началась проверка строевой подготовки по взводам и отделениям. Командующий на ней уже не присутствовал: вместе со старшими начальниками он в сопровождении командира полка отправился осматривать казармы части. Дежурный по полку, встретив во дворе Елистратова, сообщил ему о возвращении Воронкова и о том, что этот гуляка отсиживается покамест в казарме. Елистратов прежде всего подумал: «Хорошо еще, что Воронков не попался на глаза командующему, вот было бы дело!» Он ощутил холодок в сердце: таким страшным, непоправимым конфузом представилась ему эта возможность. И хотя опасность больше не угрожала, поскольку командующий побывал уже в казармах полка, в первом батальоне, и отправился оттуда в полковую школу, старшина тут же повернул к себе в роту, чтобы убрать Воронкова подальше, — долгая служба научила его недоверию к самой судьбе. Проходя мимо одного из проверявшихся сейчас своих взводов, Елистратов лишь на несколько минут задержался: он не мог не поинтересоваться, как обстояло дело. И, может быть, если б не это незначительное промедление, все обошлось бы более или менее благополучно, без потрясений и для него и для других. Во взводе проверялась одиночная строевая подготовка солдат. Поочередно, по команде командиров они выходили из шеренги, и маршировали, и поворачивались «кругом», «направо», «налево», и выполняли ружейные приемы, и отдавали честь «на месте» и «на подходе к начальнику». Полковник из инспекторской комиссии, для которого были поставлены тут же столик и стул, принимал эти индивидуальные «экзамены» и делал отметки в своей ведомости. — Нет, нет, не так… — поучал он сержанта, командовавшего отделением. — Не «крухом», а кругом! И не просто «кругом», а в два приема — учили же вас, наверно! Сперва: «кру…» — и помедли, помедли, не спеши, дай время прочувствовать, осознать, собраться. После, как удар: «…гом!» — чтобы насквозь прошибало. Ясно? Кругом! — Так точно, ясно! — поспешно соглашался сержант. От волнения он плохо слышал эти советы и, повернувшись к солдату, ожидавшему команды, повторял, напрягая голос: — Смирно! Шагом марш! Крухом! К огорчению Елистратова, он вновь начинал торопиться и частить. Солдат послушно застывал в строевой стойке, или шагал, или поворачивался — это был Алексей Баскаков, пастушок из Мещеры, — и весь его вид, сосредоточенное остренькое лицо с угольно-черными, остановившимися глазами как бы взывало к окружающим: «Вы видите: я стараюсь, как только могу, все, что во мне есть, я вкладываю в эту солдатскую науку — строевую стойку, повороты, отдание чести». Старшина тронулся уже с места, когда увидел подходившего сзади командующего, за которым следовало все начальство, — генералы шли прямо на него, на Елистратова. И отступить в сторону, уклониться от встречи было невозможно; он вытянулся, приветствуя генерал-полковника. И командующий его узнал — у Меркулова было памятливое зрение, — остановился и поздоровался. — Старшина девятой роты? — вспомнил он. — Отлично сегодня прошли, поздравляю. Он пожал Елистратову руку и, желая доставить удовольствие этому ветерану полка, приказал: — А ну ведите меня к себе, товарищ старшина, отличайтесь дальше! Показывайте, как живете. Меркулов был доволен: только что в учебном подразделении, увидев на каждой курсантской тумбочке флакон с одеколоном и коврик перед каждой койкой, он вполне искренне сказал: — С удовольствием сам пошел бы к вам в курсанты. Кончилась старая казарма — очень хорошо! И, глядя сейчас на безмолвствовавшего старшину, оробевшего, должно быть, в присутствии многочисленного начальства, он подбодрил его: — Знаю я вас, старичков, скромничаете все, а сами небось такой блеск у себя навели! Ну, что же вы? Елистратов взглянул на командира полка Беликова, на генерала Парусова, командира дивизии, одними глазами моля о помощи. — Ведите, старшина! — распорядился Беликов. И лишь один генерал Самарин, заместитель командира корпуса, посмотрел на Елистратова с неодобрением. Самарин устал уже, обходя «хозяйство» полка, у него разболелось раненое колено, и он с тоской думал о том, что ему долго еще придется сегодня быть на ногах, сопровождая генерал-полковника. Все двинулись к казарме. По пути туда у Елистратова блеснула на миг надежда на капитана Борща, который, возможно, принял какие-то меры в отношении Воронкова. Но тут же он эту мысль отбросил: и Борщ и командиры взводов находились все время на плацу. Может быть, — и это было бы спасением! — дежурный по роте сам догадался куда-нибудь упрятать Воронкова? Ибо в противном случае следовало быть готовым к самому худшему. — За что получили ордена Славы, товарищ старшина? — задал по дороге вопрос Меркулов. Он все пытался приободрить старого служаку. Но лишь после долгой паузы Елистратов, собравшись с мыслями, откашлявшись, ответил: — Первый — за Киев, товарищ генерал-полковник, второй — за бои под Веной — по совокупности. Идя следом за командующим по знакомой дорожке, обложенной белеными кирпичными уголками, — поднимаясь затем по железной гулкой лестнице на свой второй этаж, Елистратов чувствовал себя так, точно шел на казнь. Дежурный по роте сержант вовремя встретил командующего и без запинки, отчетливо и молодцевато сделал свой доклад. В коридоре, в комнате канцелярии, в Ленинской комнате и в помещении первого взвода все обстояло также безупречно: ни соринки нельзя было найти нигде на полах, а койки, выровненные по веревочке, заправленные без единой морщинки, с белыми треугольниками полотенец на подушках с белыми «фар-тучками» на изножиях радовали глаз. Дневальные, чистенькие и подтянутые, как солдатики на учебных плакатах, стояли на своих местах; пахло влажным деревом, масляной краской, мылом — свежими запахами чистоты и порядка. И Елистратовым овладело щемящее чувство печали. Не страх перед последствиями того, что через минуту должно было открыться посреди созданной его руками красоты, но именно печаль проникла в его сердце — острая жалость от сознания обреченности этой красоты, от невозможности ее уберечь. Действительность оказалась даже более жестокой к Елистратову, чем он мог вообразить. Воронков был обнаружен в самом стыдном, оскорбительном виде: он спал. Спал в то время, как вся рота была на ногах, тихо посапывал, повалившись поперек койки (почему-то чужой, булановской, стоявшей ближе к окну), в одежде и даже не сняв запыленных сапог, стонал, как с похмелья, бледный, с лиловой шишкой на голове. Разбудил его зазвеневший, как стекло, в которое запустили камнем, голос Парусова: — Встать! Веки у Воронкова дрогнули, он глубоко вздохнул, разлепил ярко-синие глаза и слабо улыбнулся спросонок.