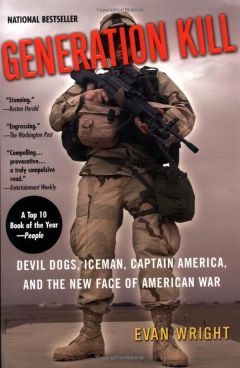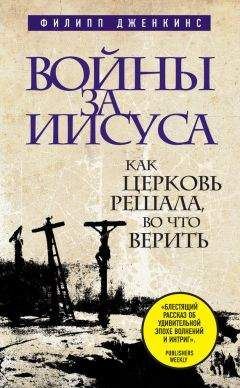Филипп Капуто - Военный слух
Несколько минут мы пытались найти всему этому какое-то разумное обоснование. Ведь бойцы роты делали лишь то, чему их учили, и чего от них ждали: они убивали противника. Всё, чему обучили нас в морской пехоте, говорило о том, что мы должны гордиться содеянным. Мы и гордились, большинство из нас, но не могли понять, почему к этой гордости примешиваются чувства жалости и вины. Ответ был прост, но в то время для нас не очевиден: несмотря на всю свою интенсивность, морпеховская подготовка до конца не стёрла то, что мы усвоили за годы, прожитые дома, в школе, в церкви, где нас учили тому, что жизнь человека драгоценна, и лишать её — грех. Время, проведённое на полигонах, и первые два месяца во Вьетнаме притупили, но не убили нашей способности переживать. Мы по-прежнему могли испытывать чувство вины, и не дошли ещё до состояния морального и эмоционального оцепенения.
Более-менее это касалось большинства солдат. Но были исключения. Как минимум один морпех в роте уже перешагнул границу между чёрствостью и дикостью. Мы подожгли лагерь и едва успели отправиться в обратный путь по руслу высохшей реки, как наткнулись на дозорную группу, которую вёл сержант Локер. Были они смертельно усталыми, и потными настолько, что казалось, будто только что побывали под ливнем. Объявив привал, Локер сел на корточки и закурил сигарету.
— Это вы там, позади, подожгли, сэр?
Да, это я поджёг, ответил я.
— Мы там тоже проходили, но я не стал ничего трогать. Помните, как бесился «шкипер», когда мы сожгли ту деревню? Он ведь сказал — никаких деревень больше не жечь.
— Там лагерь был, сержант Локер, не деревня.
Пожав плечами, он ответил: «Ладно, лейтенант. Вы тут главный». Он сделал длинную затяжку, посидел, глядя куда-то в сторону, и снова обернулся ко мне. С его аккуратно подстриженных чёрных усов капал пот.
— Про Хэнсона слыхали, сэр?
— Нет. А что с ним? (Хэнсон был одним из стрелков 1-го взвода).
— Поймал сучонка, когда он у мёртвого Ви-Си уши отрезал. Взял «K-bar» [44] и пытается уши отрезать. Во гадёныш! Ну, взял я его за шкирку и пообещал устроить ему образцово-показательное дрочево, если ещё раз поймаю.
Я живо представил себе Хэнсона: тихоня лет девятнадцати, худой, высокий, волосы светлые, но не так чтобы очень. Выглядел он настолько по-американски, что в прежние времена мог послужить моделью Норманну Рокуэллу для обложки журнала «Сатердей ивнинг пост». Я попытался представить его в ситуации, которую только что описал Локер, но не смог.
— Мистер Леммон знает?
— Так точно, сэр. На этот раз, думаю, пацану ничего не будет. Я не дал ему довести дело до конца. Но каков уродец, да?
Я промолчал, хотя мне хотелось напомнить Локеру о двух его друзьях-австралийцах. Может, Хэнсон был одним из тех, кто видел, как «осси» гордо демонстрировали свой трофей, и в его юном, не особо облагороженном образованием мозгу укоренилось представление о том, что творить подобное — нормально. И всё же должно было быть что-то очень и очень не так с человеком, способным хладнокровно, не моргнув глазом, кромсать труп ножом. Поступок Мардсена имел, по крайней мере, хоть какое-то разумное объяснение, но действия Хэнсона были выше человеческого понимания. Я ни слова больше не хотел об этом слышать. Свою норму эмоциональных потрясений на тот день я набрал.
* * *Шагая обратно на болото, мы увидели убитых солдат противника, аккуратно уложенных в ряд как для осмотра. Какой-то фотограф — по-моему, из «Старз энд страйпс» — фотографировал их в разных ракурсах. Меня поразило то, что трупов было всего четыре. Четыре! Мы вели бой полтора часа, расстреляли сотни патронов из стрелкового оружия, выпустили двадцать мин из миномёта, произвели массированный обстрел из 155-мм гаубиц — и всё это ради того, чтобы убить четырёх человек. Я поделился своими мыслями по этому поводу в штабе роты, и один морпех сказал: «Там было много фрагментов тел и кровавых следов, поэтому по нашим подсчётам получается восемь убитых Ви-Си». А когда я спросил, откуда взялось это число, он ответил: «Да просто кто-то сосчитал все руки-ноги и разделил на четыре».
Я вручил добытые документы Питерсону и доложил о нашей экскурсии на вьетконговскую базу. Он, похоже, остался доволен, и это, само собой, меня порадовало. Затем он приказал моему взводу выйти в боевое охранение на высоту, расположенную на западном краю болота. Мы должны были обеспечить безопасный подход роте «А», которая должна была подойти и соединиться с нами позднее. В ходе перестрелки у деревни Хойвук они захватили пятерых военнопленных.
Мы в полном изнеможении добрались до вершины холма высотой триста футов. Морпехи распределились по рубежу круговой обороны и попадали на землю, подложив под головы каски и рюкзаки. Затем я приступил к исполнению освящённой временем обязанности командира взвода — осмотру ног. Бойцы сняли покрытые запёкшейся грязью ботинки, стянули мокрые насквозь носки. Ниже колена ноги у всех были обсажены пиявками, кожа сморщилась и побелела, как у стариков.
Переходя от одного бойца к другому, я увидел, что они как-то изменились, и, не знай я их так хорошо, перемены этой я бы не заметил. Они побывали в первом бою, пусть не очень интенсивном, продлившемся всего девяносто минут. Но бойцы их роты в течение этих девяноста минут убивали людей, а они впервые стали свидетелями насильственной смерти, немного вкусили жестокости, порождаемой в людях боевыми действиями. До того как прозвучали первые выстрелы, эти морпехи соответствовали обоим значениям слова «infantry»[45], которое означает или «солдаты, ведущие боевые действия в пешем порядке», или «собирательное название детей, мальчиков, юношей». Суть происшедших в них изменений состояла в том, что второе значение было к ним уже не применимо. Причастившись к первому из таинств войны, боевому крещению, они вышли из мальчишеского возраста. Ни они, ни я этими понятиями тогда не оперировали. Мы не говорили себе: «Мы побывали под огнём, мы проливали чужую кровь, мы стали мужчинами». Мы просто понимали, что с нами произошло нечто очень важное, хотя и не смогли бы выразить это словами. Проходя по рубежу обороны, я ловил обрывки разговоров солдат, обсуждающих пережитое. Одни хотели выговориться и снова овладеть своими эмоциями, другие скрывали свои чувства под деланной крутизной. «Видал того Чарли, которого Мардсен грохнул?» «Ага, вышиб все к херам. Один пацан из первого взвода говорит, через дырку в голове было зубы видно». «Ага, сорок пятый калибр с близкой дистанции медкарту портит однозначно». «У одного Чарли документ нашли, ему всего пятнадцать было. Пятнадцать, блин. Пацан совсем, нахрен». «Ни хрена себе — пятнадцать. Да ну, все гуки выглядят уж больно молодо. Документ, наверно, поддельный». «Ну, всяко не намного моложе любого нашего. Не знаю… Мне их как-то жалко стало. Точно говорю». «Значит, точно говоришь? Думаешь, вышло бы наоборот — они бы по тебе слёзы лили? Фиг там. А, насрать. Они хотели грохнуть нас, а грохнули их мы. Ну, извини».
Большинство бойцов устали настолько, что на долгую болтовню сил не оставалось. В конце концов все погрузились в хмурое молчание, наступил упадок сил, всеобщее ощущение разочарования и подавленности. Во время перестрелки, когда мы впервые побывали в бою, всё оказалось не так, как ожидалось. Мы ведь привыкли к чётким показным сражениям, которые вели на полигонах, а в реальном бою оказалось куда больше беспорядка и намного меньше героизма. Взвод Леммона, может, и погеройствовал, но для остальных всё свелось к постыдной охоте на людей, и, вытаскивая трупы из болотной грязи, мы сами себя стыдились, будучи скорее гробокопателями, чем солдатами.
Кроме того, нас поразило зрелище того, что вытворяет с людьми современное оружие. До этого мы привыкли видеть мертвецов в целости-сохранности, в нашем представлении слово «труп» означало престарелого дядюшку в гробу, с напудренным лицом и с аккуратно повязанным галстуком на шее.
Смерть не имеет градаций: престарелый дядюшка, благопристойно скончавшийся в собственной постели, не менее мёртв, чем солдат противника, голову которого разворотила пуля из пистолета 45-го калибра. Тем не менее, нам стало дурно при виде разорванной плоти, хрящей и разбрызганных мозгов. Самым ужасным было осознать, что тело, предназначенное служить домом бессмертной души на земле, которое люди постоянно кормят, содержат в надлежащем состоянии, приукрашивают, на самом деле является лишь хрупкой оболочкой, доверху набитой всякой гадостью. Даже мозг, этот чудесный сложный орган, благодаря которому работают разум и речь — не более чем сгусток склизкой серой массы. При виде расчленённых тел я не просто испытал физическое отвращение, это зрелище разбило религиозные мифы моего католического воспитания. Я не мог глядеть на этих мертвецов и по-прежнему верить в то, что их души «отошли» в иной мир и продолжают жить там, или даже в то, что они вообще когда-то обитали в этих телах. Я не мог уже верить в то, что это кровавое месиво сможет воскреснуть с наступлением Судного дня. Они ведь казались «мертвее мёртвых». Для того, что с ними сделали, более подходили слова «забиты» или «уничтожены». В общем, как ни называй, от них не осталось ничего — ни тела, ни разума, ни души. Кончился их последний день на земле, причём довольно быстро. Погибли они задолго до полудня.