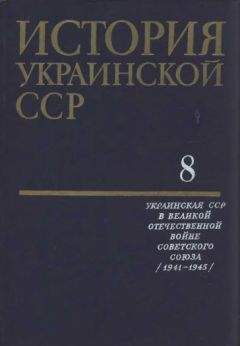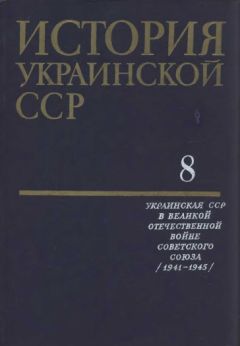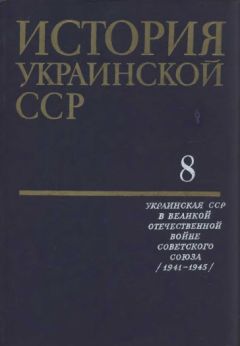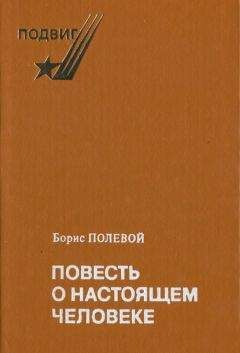Николай Бирюков - Чайка
Сжимая гранату, Катя смотрела на отъезжающие машины и старалась припомнить, зачем она пришла сюда, что-то очень важное нужно было сделать, а что — забыла.
Она вышла из-за деревьев. На том берегу вдали темнела окраина Головлева.
«Да… Головлево», — вспомнила Катя.
Все время, пока она ходила по лесу, у нее было желание самой посмотреть следы, которые остались на дороге от Феди и Танечки. Она застегнула тужурку и пошла к берегу.
В отряд вернулась на рассвете. Позади землянок, склонившись над ручьем, мыл сапоги Зимин. Он был босой, в нижней рубашке с расстегнутым воротом. Казалось, вместе с военным френчем и портупеей он снял с себя и командирскую строгость, и Кате захотелось обнять его и, как родному отцу, рассказать об открывшейся в ней горькой любви. Она подумала, что лучше Зимина никто не поймет, как хочется ей сейчас, чтобы он, ее Федюша, был здесь, рядом с ней, среди своих товарищей.
— Посиди, — увидев ее, предложил Зимин.
Она присела на толстый корень ивы.
Ручеек журчал тихо и шепеляво. От землянок доносились протяжные звуки гармони, и несколько голосов, мужских и женских, тихо напевавших:
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой…
— Тяжело? — спросил Зимин.
— Тяжело…
— Д-да… Трудная наука…
Катя медленно подняла на него глаза.
— Какая?
— Уметь сердца железными сделать. Трудно, а надо… Надо ведь, дочка, а?
Помолчав и смотря прямо перед собой, она согласилась:
— Надо.
И почему-то вдруг после этого решительно произнесенного слова у нее прошло желание поделиться с кем бы то ни было своим горьким чувством.
— Я дал приказ доверенным в Головлеве и в ближайших селах тщательно проверить: может быть, Федя ранен и подобран колхозниками, — сказал Зимин обуваясь.
Щеки Кати порозовели.
— Знаешь, отец, я тоже так думаю… А может так быть?
— Конечно, может!
— Наверное, так и есть. От того места, где он отбивался, ни в одну сторону его следов нет.
Зимин изумился:
— Ты там была?
— Была.
Он поднялся, и они пошли к землянкам.
— Немцы, видно, собираются мост строить.
— Мост? — Зимин резко остановился.
Катя рассказала ему о том, что видела на Волге под Головлевом, и он нахмурился.
— У тебя встреча с Марусей сегодня?
— Да.
— Скажи ей, чтобы постаралась точнее выяснить насчет моста.
— Хорошо.
— И о Феде… Пусть побывает в Певске.
— Хорошо… — снова помрачнев, отозвалась Катя. Об этом она тоже думала. Отсутствие фединых следов у места схватки можно было объяснить двояко: или подобрали свои, или схвачен немцами. Но попасть к гестаповцам — это куда страшнее, чем смерть.
— Скажу, — добавила она еле слышно.
Глава третья
Подходя к хутору Красное Полесье, Женя услышала шум. Мимо нее быстро пронеслись две закрытые машины. На хуторе было неспокойно. Женя почувствовала это сразу же, едва ступила на окраину: посреди дороги и у домов толпились старики и женщины. Из слов, уловленных мимоходом, догадалась: немцы переписали население хутора, а на дворы, в которых имелись лошади и телеги, составили особые списки.
На углу переулка, в который ей нужно было свернуть, под окнами приземистого дома столпились человек двадцать колхозников и молча слушали чернобородого мужика, вероятно хозяина этого дома: он стоял в полураскрытой калитке. Женя задержалась.
— Каждый по своей совести пусть такое дело решает, — говорил чернобородый, комкая в руке картуз. — На меня смотреть нечего. Сами знаете: когда немцы здесь — я «староста», а когда их нет — не вижу, что у меня за спиной делается; а увижу, так зажмурюсь, будто в глаза пыль попала. Но ежели кто сам на немцев напорется, пусть на себя и пеняет: они не зажмурятся… Офицер мне так и сказал: всех заставят работать, а кто откажется — изничтожат. Потому и совет даю: не горячитесь… К примеру, гусак и то: разозлится, а редко когда напрямик лезет, норовит обождать, чтобы я спиной к нему повернулся. Вот тогда-то он меня и ущемит… Время теперь такое, соседи: кто глупее гусака окажется, с того вперед и перья полетят… Только об одном прошу не забывать: ничего этого я вам не говорил. Понятно?
«Кто его знает, что за человек: не то за нас, не то за немцев!» — подумала Женя.
На улице, где жили Кулагины, тоже кучками стояли люди. У ворот соседнего с Кулагиными двора женщина в одной рубашке и шали, накинутой на плечи, говорила седому старику и двум хуторянкам:
— Конь-то не мой — колхозный! Как же я им распорядиться смогу? Вы же сами потом скажете: доверили бабе коня — один навоз от него остался… А угнать куда-нито, припрятать — свою голову потеряешь.
Голос ее звучал растерянно и зло. Женщины молчали, а старик, взглянув на Женю, остановившуюся шагах в десяти от них, тихо сказал:
— Был колхоз, да сплыл. Чего уж тут о коне! Потерявши голову, по волосам не плачут. — Он безнадежно махнул рукой и зашагал на другую сторону улицы.
Дождавшись, когда все разошлись, Женя подошла к дому Кулагиных. На стук вышла мать Маруси. Она молча впустила гостью во двор; поднимаясь на крыльцо, всхлипнула.
— Вы що, мамо?
— Маня у меня…
— А що с ней? — встревожилась Женя.
— Сама увидишь.
Маруся сидела за столом и неподвижным взглядом смотрела поверх головы братишки, что-то мастерившего на полу из досок. На звук открывшейся двери не оглянулась.
Женя обняла ее.
— Що ты така, Марусэнька? Лица нэма, а очи, як тучи… Яка беда с тобой приключилась?
— Никакой.
Маруся попыталась отстранить ее руки, но Женя обняла крепче.
— Ни, ты мне все кажи.
Она села и встревоженно смотрела на подругу, а та, видно, тяготилась ее присутствием.
— Пойдем под окна, поговорим трошечки.
— Не о чем…
На столе враскидку лежали тетрадочные листы. Один был исписан.
«Я думаю, Катюша, ты поймешь меня, — прочла Женя. — Страшно жить стало, а сердце горит-горит… толкает оно, требует, чтобы я…»
Маруся вырвала у нее листок.
— Ну, коли секреты, до них мине дела нету, — невесело улыбнулась Женя. Она взяла чистый листок и написала: «Катя тревожится по тебе. Почему у каменной бабы не была?»
Маруся оглянулась на мать и братишку, взялась было за карандаш и, положив обратно, устало сказала:
— Так…
— В Певске была?
— Нет.
— Пойдешь?
— Зачем?
— Як зачем? А Федя? — возмущенно вырвалось у Жени.
Маруся покраснела, но промолчала. «Завтра Катя там будет. Пойдешь?» — написала Женя.
— Не знаю. Может быть… — Маруся растерялась. — Ведь я… ничего не сделала, что она просила… Как же?
— Об этом ты не мне скажешь, — разрывая листок на мелкие частицы, холодно сказала Женя.
Мать испуганно смотрела на девушек заплаканными глазами.
— А у нас сегодня весь день переписывали. Кольку моего и то записали, — сказала она, чтобы оборвать тягостное молчание.
Продолжая искоса наблюдать за Марусей, Женя спросила:
— А вы не скажете мне, мамо, що за человек у вас с той улицы… хата с краю, як до вас свернуть треба: черный такой, як цыган?
— Тимофея Силыча, наверно, видела — старосту; ихний дом — Стребулаевых — на переулке.
— А що вин за человек?
— Да как тебе сказать… В семье крутоват; приходится — бьет и жену и сына… А сын-то женатый… Я не раз одергивала: «Тимофей Силыч, да ты хоть народа-то постыдись». — «Стыжусь, — говорит, — Наталья Степановна, да трудно самого себя в ежовые рукавицы взять».
Старушка помолчала, задумчиво глядя на дочь.
— Что уж с годами укоренилось — вроде болезни. И не рад ей, а она есть, — сказала она, вытирая фартуком глаза. — Зато в работе он редкостный человек. Семья-то не в него: что баба, что сын, что сноха — ленивы. А баба к тому же ядовита, как репейник, за всех цепляется. Может, потому он редко и бывает дома. Сперва, когда рядовым был, все по соседям да на собраниях, а как завхозом сделали — по хозяйству. Другой раз ночью, глядишь, спят все, а он в поле или по конюшням ходит. А в войну так прямо и спал на поле. Его и в Певске хорошо знают. Чайка, бывало, как приедет, и на поля с ним и в дом хаживала. Я однова слышала, говорит нашим девчатам: «Вот, мол, у него, у Тимофея Силыча, надо учиться работать и землю любить». Это, скажу, в самую точку. Чего-чего, а этого у него не отнимешь. Свое хозяйство может и недосмотреть, а чтобы колхозное…
— А як же вин в старосты попал?
— Сам напросился.
— Сам?..
— Сам, — вздохнула мать, думая о Марусе. — Согнали нас немцы: кого старостой выбирать? Молчим. Кто хочет старостой быть? Молчим. А он: «Я хочу». Конечно, от него все головы в стороны… И я… Повстречались вечером — мимо. Догнал. Вижу по лицу — мучается. «Эх, Наталья Степановна, — говорит, — от кого еще, а от тебя не ожидал! Слава богу, не первый денек меня знаешь. Пойми ты, дурья голова, ведь все молчите, никого охотников… Поставили бы немцы по своему выбору, тогда и пляши». Говорит, а в голосе и злость и слезы… Махнул рукой и пошел. Теперь видим: не спешит он разные немецкие приказы исполнять. Вот и выходит, человек вроде на позор пошел, чтобы полегче нам дышалось, а мы его… Да ты, к слову, почему про него выспрашиваешь?