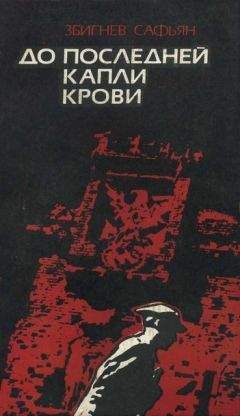Збигнев Сафьян - До последней капли крови
— Какой же?
Валщкий ответил не сразу.
— Я думал об этом, — наконец произнес он. — Подумай, столько лет неволи — и вдруг маршал Пилсудский… Великий человек, который уверовал в собственное достоинство и пренебрег всеми демократическими институтами. А после этой войны должен быть кто-то, кто отважится выслушать собственное решение поляков и в то же время овладеет нашим воображением. — Полковник неожиданно рассмеялся. — Скажешь; старый, смешной мечтатель.
Без мундира, в расстегнутой рубашке, он действительно выглядел стариком, с морщинистой шеей, мешками под глазами, сединой на висках.
— Давай лучше выпьем. — Валицкий сменил тему разговора. — Знаешь, как здесь говорят? Пусть в этом стакане останется столько вина, сколько крови в жилах наших врагов. — Он с сожалением поглядел, а может, Рашеньскому это только показалось, на узбечку. — Мое пребывание здесь подходит к концу, уезжаю в Красноводск, буду командовать эвакуационной базой.
— Быстро все делается.
— Быстро, — подтвердил Валицкий.
— А я, — продолжал Рашеньский, — хочу знать почему. За тем сюда и приехал.
— Для истории?
— Можно было бы избежать этого?
— Наверное, можно… Но скоро начнется… Боюсь, что еще в течение многих лет взаимные претензии, фальшь, вранье будут заслонять правду… Считаешь, что идея уйти из России родилась только сейчас? Ты, наверное, не знаешь, что Сталин предлагал Сикорскому более подходящие районы формирования армии, чем Узбекистан. Например, Казахстан, южнее Алма-Аты… А Андерс выбрал эти места, хотя переброска из сурового климата в жару, в трудные санитарные условия вызвала среди людей всякие эпидемии… Помнишь Кшемского? Того, кто все время искал связника в Варшаву? Умер от сыпного тифа.
— Зачем же тогда пошли на это?
Валицкий пожал плечами.
— Любой ответ может быть гипотезой, любое мнение может быть подвергнуто сомнению. Андерс настаивал на самых южных районах, чтобы быть поближе и границам с Китаем или Афганистаном. У меня есть приятель в 6-й дивизии под Самаркандом… Послушай, что он пишет… — Полковник порылся в ящике стола и вытащил письмо. — «Под видом экскурсий мы собирали данные о горных тропах и дорогах недалеко от афганской границы, а также рассматривали возможность переброски эшелонов по железной дороге на Ашхабад, в сторону персидской границы. Изучали дислокацию находившихся поблизости советских гарнизонов, складов, в том числе с оружием». Ты понимаешь, их охватил психоз бегства, готовы на все, лишь бы «удрать из этой чертовой страны, убежать подальше, хоть пешком, хоть на носилках».
— Это страшно.
Валицкий пожал плечами.
— Но надо знать причины всего этого, — грустно улыбнулся он, — они могут быть разные… Некоторые таятся и в психике. Андерс думает, что это он решил вывести армию, а в действительности…
— Что?
— Сикорский считает, — продолжал Валицкий, — что он выступил против этого, но недостаточно решительно. А какие были интриги между посольством и штабом, в самом штабе.
— И Советы подозревали это?
— Да, подозревали. А мы относились к их подозрительности по-барски. Если бы армия отправилась на фронт, если бы вместо личных амбиций, тщеславия, претензий, обид было стремление воевать… Впрочем, — добавил он, разливая коньяк, — я не знаю всех фактов, но знаю одно: совершена ошибка, сведены на нет огромные усилия. Ты когда-нибудь задумывался, как к этому могут отнестись в Польше? Совсем по-другому! Что им до наших склок? Только одно можно учесть…
— Да, — произнес Рашеньский. — И что же теперь будет?
— Не знаю. Но знаю, что сделаю я.
Рашеньский поглядел ему прямо в глаза.
— Ты этого не сделаешь, полковник, а если действительно так поступишь, я пойму тебя.
* * *Он ждал Аню у входа в госпиталь. Утром светило солнце, сейчас же начался противный дождь. Стефан укрылся под лестничным навесом и глядел, как из только что подъехавшей машины выгружают раненых. Те, что могут идти, ковыляют род струями дождя, санитары суетятся с носилками, а в коридоре, который он видел в открытую дверь, устанавливают койки вдоль стен. На него бросали весьма неблагожелательные взгляды. Такой молодой, здоровый, в прекрасно сидевшем на нем мундире, а в госпитале не хватало мест для раненых, врачи и медсестры работали без передышки, через каждые несколько часов слушая угрюмый голос Левитана, называвшего города, которые «после упорных и кровопролитных боев, нанеся врагу тяжелые потери, покинули наши войска». Майкоп, Краснодар… Боже мой, куда же дошли немцы!
В дверях стоял врач Петр Михайлович Карпов в длинном, белом, не первой свежести халате. Он наклонился над лежавшими на носилках ранеными, попеременно указывая на коридор, операционную. Вдруг он заметил Стефана, и на его уставшем, небритом лице появилась улыбка.
— Вы ждете Аню?
— Да.
— Она придет, как только примем эшелон. — Он вытер о халат свои большие руки. — Чувствую себя мясником и страшно голоден. У меня был профессор в Москве, который говорил: станешь врачом, если сразу же после вскрытия трупа с аппетитом поешь. Вот сейчас я бы не отказался. — И снова склонился над носилками.
Радван познакомился с Карповым несколько недель назад, когда пришел за Аней в госпиталь. Потом втроем они зашли в чайную, выпили по рюмочке, и врач пригласил их к себе «на что-то получше». Действительно, у него оказалась замечательная наливка, а когда через пару дней Карпов снова пригласил их, Стефан явился с бутылкой виски и консервами, что было принято весьма доброжелательно. Фактически это был первый русский, с кем он близко познакомился, и первый дом, который посещал вместе с Аней. Стефан испытывал особое чувство удовлетворения, что бывал здесь с Аней и что относились к ним как к супружеской паре; у них уже появились общие друзья, о которых могли говорить. Правда, беседы Стефана и доктора Карпова иногда удивляли и даже возмущали Аню. Жена врача, полная, добродушная Елизавета Васильевна, не придавала им никакого значения. Она забирала Аню на кухню, чтобы из принесенных Стефаном консервов смастерить, как она говорила, «что-нибудь вкусненькое поесть».
Карпов любил разговаривать с Радваном по-английски, поскольку неплохо знал этот язык, а Стефан весьма плохо говорил по-русски, и это давало им возможность обсуждать политические вопросы в отсутствие женщин. «Я старомодный», — говорил он, а у Радвана создавалось впечатление (и это вызывало у него досаду), что Петр Михайлович боится Ани. Он наверняка любил ее, но в то же время и боялся.
Со стаканами виски в руках они сидели в глубоких креслах, а дамы устроились на топчане, рассматривая альбом с фотографиями, который Стефану показывали уже по крайней мере дважды: это была история в картинках сына доктора Карпова, Леонида, даты под каждой фотографией, ученик, студент, офицер, с женой, на даче, на улице и… трехлетний перерыв, с тридцать восьмого по сорок первый год. В сорок первом — командир полка. Об этом перерыве Карпов впервые рассказал во время их последней встречи, на сей раз по-русски, как будто нарочно, чтобы Аня знала об этом. Но вначале они говорили по-английски.
— А вы не боитесь, — спросил Стефан, — принимать у себя буржуазного польского офицера из посольства?
— Есть немножко, — признался Карпов, — но это больше страх по привычке. Вы этого не поймете. Я принадлежу к дореволюционному поколению, мой отец служил здесь врачом, и перед первой мировой войной у него была уже неплохая практика. Я согласился с переменами, но не привык полностью отождествлять Россию с Советским Союзом. Сейчас идет война с Россией, я русский врач, а те ребята, что гибнут на фронте, умирают за Россию. Отсюда недаром — орден Суворова, Отечественная война. — Он улыбнулся. — Но это не значит, пан Стефан, что я шовинист, я просто понимаю то, чего вы в Европе не можете понять и чего, — взглянул на топчан, — может быть, не поняла и Аня: что сегодняшний Советский Союз — это частица истории России, Сталин представляет государственную власть, корни которой уходят в православие и царизм, а война с Германией является очередным туром славяно-германской борьбы.
— Значит, — вмешался Стефан, — отношение к Польше является продолжением традиционной русской политики?
— Нет. Отношение к Польше всегда было каким-то неопределенным. В России были две политики по отношению к ней. Вспомните, пожалуйста, времена Александра Первого или даже Екатерины. Наша интеллигенция всегда выступала за предоставление независимости вашей стране или, в крайнем случае, автономии в широком понятии этого слова.
— Автономия нас не устраивает.
— Но видите ли, — продолжал Карпов, — отношение к соседям в сознании людей всегда формирует история. Средний русский человек, даже интеллигент, услышит в слове «Польша» шум гусарских крыльев, а для вас Россия будет ассоциироваться с планами раздела Польши Екатериной. А ведь это уже анахронизм.