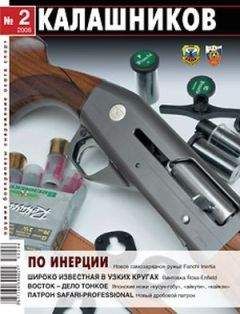Анатолий Кучеров - Служили два товарища...
Майор поднял глаза и не спеша обвел всех взглядом. На мне тоже задержался его взгляд.
Я вышел из землянки. Меня никто не звал на послеполетный разбор, и мне не полагалось на нем присутствовать. Я опустился на скамеечку у входа на КП.
Звено первой эскадрильи уходило на задание по батареям. Самолеты низко прошли над аэродромом, исчезли за соснами, и сразу стало тихо.
Издали доносились разрывы. Судя по звуку, обстреливался Выборгский район.
Я вспомнил тридцать шесть вылетов с Васей Калугиным. Я мог бы рассказать подробно о каждом, я вспомнил его доброе лицо и наше первое знакомство, дружбу, и как он спас мне жизнь, и его бешеную ярость доброго и вспыльчивого человека, вспомнил бесстрашную Настеньку и почти женственную мягкость отношения Калугина к ней. Кто теперь напишет Настеньке о его смерти?
И снова вспомнился он в первые дни войны, в дни отступления, и в первую голодную зиму блокады. Наши разговоры в свободные часы поздно вечером в темноте, когда папироса или трубка то разгорается и на минуту вырывает из темноты лицо товарища, то потухает. А койки в землянке так близко, что, не вставая, можно пожать друг другу руку.
О чем мы говорили? О победе, о конце войны, о втором фронте, о фашизме, конечно, о Вере и Настеньке, о любви, о счастье. О ремесле авиатора. О будущем, о коммунизме. Мы говорили обо всем на свете и никогда не уставали при этом.
На многое мы смотрели по-разному, и это было только интереснее. Потом всё кончилось.
Я достал трубку из унта, набил ее и закурил. Но вкус у трубки был горький.
Калугин подарил мне эту трубку с мундштуком из вишневого дерева. Он привез ее с юга и очень любил и, заметив, что она мне тоже нравилась, подарил мне, а я подарил ему свою. Но курили мы чаще папиросы.
И, глядя на трубку, захотелось вдруг уйти куда-нибудь подальше, чтобы никто не видел. Я обошел землянку, сел прямо на снег там, где никто не ходил, и прислонился к зеленым сосновым ветвям, припорошенным молодым снежком.
Миновал, вероятно, час, а я все еще сидел на снегу, и никто не тревожил меня.
Когда я вернулся в эскадрилью, Власов резко спросил, куда я уходил: надо было писать донесение об учебных полетах. Но, посмотрев на меня, отвернулся и потом спросил:
— Ну как, есть новости о голубом?
Новостей не было.
Я сел за донесение. Подошел Булочка. Его молоденькое лицо все еще горело после полета.
— Все три в цель, — сказал он, наклоняясь ко мне, и Власов, услышав его слова, подтвердил:
— А Морозов молодец, точно ввел в пикирование.
Булочка, конечно, расцвел, и стало веселее.
Ужинать я пошел со всеми. На столе командиров эскадрилий стоял прибор Калугина и ждал его. Рядом, мрачно склонившись над тарелкой с кашей, сидел Власов.
Принесли послеполетные сто граммов. Власов шепнул что-то Любе, и она принесла лишнюю кружку с водкой.
— Борисов! — крикнул мне Власов. — Подойдите сюда. Вот порция Калугина, — он усмехнулся, — я думаю, ее следует разделить с вами, Борисов.
Он отлил командиру первой, себе и протянул мне то, что осталось в кружке.
— За Калугина, — сказал Власов, — чтобы он вернулся.
Командир первой ничего не сказал.
— За прорыв блокады.
Мы сдвинули кружки и молча выпили.
В раздевалке я налетел на длинную фигуру Горина. Он только что вылез из шинели и, так как вешалка была занята, привстав на носки, пристраивал шинель на крюк под потолком.
— Борисов, Сашка! — закричал он, сверкая глазами из-под мохнатых бровей. — Есть героическое?
— Есть, — сказал я, — погиб Калугин.
— Враки, — засиял Горин. — Я сейчас от артиллеристов, Вася сел у соседей, фотоаппараты и пленки целы.
Тощее лицо Горина ослепительно сияло.
— А ты говоришь — погиб. Ничего героического... Калугин, Калугин такой молодчина, черт побери, такую сделать посадку, так спланировать! А ведь можно было, скажу тебе, посыпаться: не разберешь, где крыло, где нога.
Горин схватился за голову и продолжал вдохновенно:
— Герой! Герой твой Калугин! Впрочем, он теперь не твой...
Я, кажется, тоже горячо и задыхаясь, сказал что-то вроде:
— Вот это да!
В передней никого не было. Мы посмотрели друг на друга, засмеялись и обнялись:
— Ну, вот еще нежности! Пошли скорее ужинать! Я готов сейчас проглотить и кашу и Любу в придачу.
— Но, но, не очень, — сказала Люба, выскочившая в эту минуту с подносом из кухни.
Люба все понимала по-своему.
— А знаешь, Люба, Калугин жив! — сказал я и почувствовал, как по моему лицу разливается глупейшая счастливая улыбка.
Люба радостно вскрикнула и, поставив поднос с тарелками тут же в передней на окно, бросилась на кухню передать мои слова.
Я вдруг почувствовал, что хочу есть, как волк, и забыл вкус ужина.
— Пошли, надо объявить ребятам, — сказал я. Но это предложение запоздало, потому что Горин уже кричал в мгновенно наступившей тишине:
— Калугин жив, сел у соседей, пленка цела!
Я не находил себе места, пока не узнал, что вернулся весь экипаж. Калугин был легко ранен, Суслов расшиб голову, Сеня Котов не пострадал. Меня занимало, какая роль в этой истории была у Суслова. И я очень удивился, когда узнал, что Калугин похвалил Суслова и сказал, что он отлично вел фотографирование и с толком держал себя.
Вечером я зашел к нашему фотографу взглянуть на снимки Калугина.
— Вы только молчите, что я приходил.
Фотограф понимающе подмигнул и торжественно объявил, подняв руку:
— Есть, товарищ старший лейтенант!
Это флотское словечко означало у него все, что угодно. На этот раз оно означало: «Я по-прежнему расположен к вам и в своем решении молчать тверд как скала».
Снимки получились великолепные. Калугин фотографировал с малой высоты. На пленке отчетливо виднелись не только развалины восьмой ГЭС, но и черные линеечки немецких окопов, расположение батарей и даже ходы сообщений. Нелегко было привезти такие сведения.
Но меня занимали не только снимки, а и то, почему так пристально изучался этот район. Вероятно, здесь предполагался главный удар, и я не мог думать об этом без волнения.
* * *
Днем позвонили с поста у въезда на аэродром, и тоненький задорный голосок какой-то «бойчихи» доложил:
— Товарищ старший лейтенант, тут вас дожидается младший лейтенант, приходите сюда скорее.
Что за лейтенант? Что он там торчит, если у него ко мне дело? До заставы у въезда на аэродром больше километра. Ну, думаю, была не была, раз ждут — пройдусь. Иду, а навстречу замполит Соловьев.
— А, Борисов! Торопитесь, — говорит и улыбается с неизменным добродушием. — Там вас один младший лейтенант ждет. Я уже распорядился, чтобы пропустили.
Прошел еще двести метров — майор. Отдал я честь, а он остановился, словно сказать мне что-то хочет, и по своему обыкновению этак сухо и холодно смотрит, но с какой-то своей усмешечкой, которую я стал примечать с недавнего времени.
Сначала она мне очень не понравилась, презрительной показалась, а потом ничего, даже приятнее стало его лицо с этой усмешечкой. Я, конечно, тоже остановился.
— Ну, как дела у вас? — спрашивает. — Готовится эскадрилья к операции?
— Готовится, товарищ майор.
— А молодежь как вам, Борисов?
Я изумился этому вопросу: действительно, очень ему интересно знать, что я думаю о молодежи. Язвительный всё же человек! Но я, конечно, не показываю вида и говорю в соответствии с уставом спокойно и вежливо:
— Молодежь способная и воевать стремится, товарищ майор.
Он кивнул раза два и потрогал усы. Это у него означало, что он очень доволен. Я-то давно разгадал, что значит этот ерундовский жест, пригляделся за последнее время. Вдруг майор хлопнул себя по лбу, будто едва не забыл что-то очень важное и, к счастью, вспомнил.
— Да, Борисов, — говорит, — у заставы дожидается младший лейтенант, а я вас тут задерживаю. Можете быть свободны.
Я даже обалдел от этих его слов. Что им всем дался какой-то младший лейтенант? Что за удивительный лейтенант? Даже шагу прибавил.
Иду и еще издали вижу фигуру в армейской форме: сапоги, шинель длинная, зимняя шапка. И вдруг замечаю, что фигура у лейтенанта женская.
«Кто бы это?» У меня и в мыслях не было, что Вера. Я и подумать не мог об этом.
И вдруг — Вера! Ну конечно. Вера!
Вера узнала меня и бросилась навстречу.
Снег по краю аэродрома глубокий, вязнут сапоги. Добежали друг до друга. Остановились.
Вера осунулась, потемнело лицо, но глаза сияют.
— Какой ты худущий, хмурый... — Вера положила мне руки в огромных варежках на плечи, поцеловала в колючую щеку, отстранилась, разглядывая, — живой и самый настоящий!
— А ты странная в форме, совсем другая.
— Глупости, какая была, такая и есть. Мне тоже очень странно, что я тебя вижу, Саша, что стою рядом. Даже не верится.