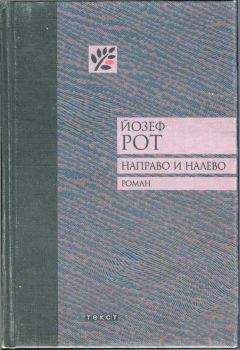Юрий Слепухин - Ничего кроме надежды
Зазвонил телефон. Шебеко сорвал трубку, послушал, потом, распаляясь, стал кричать о каких-то фондах, лимитах, о желательности думать головой, а не чем-то другим. Николаев курил, опустив голову, по-солдатски держа папиросу кончиками большого и указательного пальцев – огнем к ладони. «Если допустить»! Что с нами делается, что с нами сделали... Два солидных человека – партийный руководитель области, командующий армией – сидят и всерьез обсуждают, была ли девчонка послана работать у немцев по заданию подполья или пошла сама – да, да, сама, по собственному желанию, по нужде, по необходимости, чтобы не попасть в Германию или наконец просто чтобы не помирать с голоду, не начать торговать собой, отдаваясь тем же немцам за кусок хлеба! Даже если так? Задать бы вот сейчас Петру этот вопрос. Даже если? С кого в таком случае спрос: с этой несчастной девчонки – одной из восьмидесяти миллионов, отданных в руки врага! – или все же с нас, которые это допустили, позволили, сделали возможным? Интересно, что бы он сказал... что-нибудь в том же роде, наверное, как говорят теперь иные немцы: «Позвольте, а что мы могли, неужели вы всерьез допускаете, герр генераль, что кто-то из нас мог протестовать или что чей-то протест мог бы возыметь действие...»
Да нет, он бы и этого не сказал! Сделал бы вид, что не понял вопроса или воспринял его не всерьез, как чистой воды риторику. Или – в лучшем случае – сказал бы, понизив голос: «Ты мне этого не говорил, я этого не слышал», – по-дружески разделяя таким образом ответственность за высказанную вслух крамолу. И ведь самое забавное – это то, что и он, генерал-лейтенант Николаев, в аналогичной ситуации, на месте секретаря обкома Шебеко, поступил бы точно так же. Оба – коммунисты с двадцатипятилетним партийным стажем. Что же с нами стало? И что вообще стало со страной, с народом? К нему опять – теперь уже в более четкой форме – вернулась мысль, неясно скользнувшая в уме, когда проезжал по разрушенному центру города: мысль о какой-то ненормальной, патологической свирепости этой войны, на первый взгляд совершенно наивная, дикая для немолодого уже человека, давно избравшего войну своей профессией; и все же – возможно, именно поэтому, потому что он-то знал о своем страшном ремесле все, что можно о нем знать, – мысль не уходила.
Сама по себе война свирепее не стала. Она стала масштабнее, шире, обрела гигантский – «тотальный», как выражаются немцы, – размах, но это категория чисто количественная. Качественно же, если рассматривать любой отдельно взятый момент боя, война не стала более ожесточенной, это уже невозможно. В бою – в любом бою, о какой бы войне ни шла речь, – ожесточенность достигает максимальных значений, поэтому нельзя сказать: под Сталинградом или под Курском солдат дрался ожесточеннее, чем его предок на Багратионовых флешах, или на Куликовом поле, или на Калке. Лицом к лицу с врагом, когда вопрос стоит – кто кого, всякий человек дерется с предельным ожесточением, в полную меру своих сил. В этом смысле все войны одинаково свирепы.
Как ни парадоксально, не ужесточает их и развитие военной техники, появление более совершенных средств уничтожения. Парадокс в том, что сегодняшнее механизированное убийство на расстоянии требует от нормального человека меньшего психологического насилия над собой, чем прежнее убийство вручную. Куда проще застрелить противника – даже из пистолета, в упор, – чем раскроить ему череп топором или выпустить кишки какой-нибудь там зазубренной алебардой. В этом смысле технический прогресс войну, можно сказать, даже «гуманизирует», создавая для психики бойца более щадящие условия. Верно и то, что это палка о двух концах: убийство может стать делом настолько простым и нравственно необременительным, что люди во вкус войдут.
И все же эта война радикально отличается от всех предшествовавших. От тех, во всяком случае, в которых ему довелось участвовать. Включая, пожалуй, даже гражданскую. Отличается накалом дикого озлобления не только против немцев, но и против всех тех, кто с немцами так или иначе соприкасался, контактировал – и остался жив. К пленным, к побывавшим в оккупации. Озлобление, недоверие, и не просто «недоверие», а прямо-таки убежденность в некоем совершенном уже предательстве, в имевшем место пособничестве врагу, в том, что эти люди уже «не наши»... Откуда это? С каких пор? В любой войне, во время любого вражеского нашествия во власти врага оказывается известная часть гражданского населения, и население это – совершенно естественно – продолжает как-то жить, работать, заниматься своим делом; нигде и никогда это не считалось преступлением, изменой своей стране и своей власти. Преступлением считалось – и было – активное пособничество врагу, тут двух мнений быть не может. Но просто работа?
– Извини, – сказал Шебеко, закончив наконец телефонный разговор. – Так что, понимаешь, какая со всем этим петрушка... Но ты не падай духом, я уверен, что все разъяснится.
– Будем надеяться, – Николаев раздавил окурок в пепельнице и встал. – Ладно, не буду отрывать тебя от дел.
– Да брось ты. Когда вылетаешь обратно?
– Вечером, если погода не подведет.
– Ты вот что – ты поезжай-ка сейчас ко мне, домработница тебя накормит, и отдыхай пока. Я, если смогу, постараюсь вырваться пораньше. Ну а если не увидимся – обещаю сделать все возможное и держать в курсе дела. Машина до вечера в твоем распоряжении.
– Спасибо. Днем не понадобится, только вот на аэродром.
– Ну, может, решишь съездить посмотреть город.
– Посмотрел уже, – Николаев дернул сожженной щекой. – Что здесь получилось тогда с эвакуацией? – спросил он, надевая полушубок.
– То же, что и всюду.
– «Не паниковать»? – Николаев усмехнулся. Шебеко снял телефонную трубку.
– Вызовите машину, – сказал он и, не дожидаясь ответа, опустил ее на место.
Тот же «виллис» с фанерной будкой доставил генерала на квартиру секретаря обкома. Квартира была пустая, холодная, по-холостяцки неуютная. Пожилая домработница сказала, что обед будет часа через полтора – раньше не управиться, – и предложила пока помыться и отдохнуть. Николаев надеялся вздремнуть, но сон так и не пришел, он лежал на холодном клеенчатом диване, курил, разглядывал трещины и сырые пятна на потолке и старался не думать. Ни о служебных делах, ни о личных. Впрочем, служебные-то сейчас его и не беспокоили – потрепанная в последних боях армия стояла во фронтовом тылу, доукомплектовывалась, ремонтировалась, получала новую технику; уж один день там обойдутся без него. Думать же о личном было просто нельзя, относительно возможной судьбы племянницы лучше было не строить никаких предположений. Но «не думать вообще» не получалось, в голову лезли все те же нелепые мысли. Они, впрочем, не сегодня родились, посещали иной раз и раньше. Просто он раньше не давал им воли, словно понимая, что ни до чего хорошего тут не додумаешься. Да и времени не было думать о разных отвлеченностях. Время появилось только в госпитале. Не в том, первом, куда его привезли полусгоревшим (тогда тоже было не до мыслей), а вот уже теперь, прошлой осенью. После Курска его зацепило легонько осколком, вполне можно было подлатать на месте, но – генерал, ничего не попишешь! – отправили в роскошный тыловой санаторий, не столько на лечение, в сущности, сколько на отдых. Там он много читал, наверстывая недочитанное за два года. И странное дело – классику не мог совершенно, не шла, а периодика тянула – толстые журналы, даже газеты, – хотелось понять, как прожила страна все эти бесконечные месяцы войны, хотя и понимал, насколько условно, приблизительно все это может быть сейчас отражено и показано.
И вот тогда, помнится, его очень скоро стало раздражать то, что он называл про себя «тыловой кровожадностью», – неумеренность в изображении зверств, чинимых немцами, и «справедливого возмездия», творимого нашими людьми. Поначалу он и сам не понимал, почему это раздражает. Что же, идет война, патриотические чувства положено разжигать, а если это делается слишком грубо, так не зря же есть старый афоризм: «Когда говорят пушки – молчат музы». Или, скажем так, у войны есть какая-то своя особая, десятая муза – с голосом нарочито грубым и зычным, чтобы его можно было услышать сквозь гром пушек. А что особым рвением в разжигании патриотических чувств спокон веку отличалась именно тыловая пишущая публика, это тоже известно. И в первую мировую войну было так, даже Игорь Северянин порывался вести «на Берлин» своих поклонниц...
Но тогда все это были плоды индивидуального вдохновения, кустарщина, глупая и в конечном счете безвредная. А теперь работает огромный государственный аппарат пропаганды – работает координирование, продуманно, по единому плану. Для чего? Чтобы убедить народ, что немца надо разбить? Народ и сам это понимает. На фронте – кто хочет драться – дерется без понуканий; не нуждается в таком психологическом подхлестывании и тыл. Там люди работают на пределе возможностей – и не потому, что немцы зверствуют, а потому, что у каждой женщины и у каждого вставшего к станку мальчишки (сколько он их навидался на Урале!) – у всех есть на фронте муж, или отец, или сын, и этого вполне достаточно, чтобы работали с полной отдачей, не экономя сил...