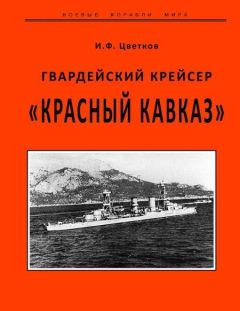Борис Крупаткин - Поют черноморские волны
Теперь в Алеховщине, в политотдельской землянке, мы встречаемся редко-редко… Записная книжка пополнилась заметками о полетах по фронтовым аэродромам, встречах с бомбардировщиками и истребителями, их боевой готовности, героизме и самоотверженности.
26 января 1942 года нас неожиданно вызвали в Алеховщину, — здесь уже все «тихвинцы», — в штабной землянке состоится вручение орденов и медалей.
Через несколько дней номер армейской газеты «Во славу Родины» почти целиком был посвящен «тихвинцам». Передовая статья «Слава героям!», целая страница под «шапкой»: «Слава бесстрашным! Им вручены ордена Советского Союза».
Нам было особенно приятно, что от имени Президиума Верховного Совета СССР ордена и медали вручал наш друг и соратник с первого дня войны, обаятельный человек Василий Михайлович Шаров — бригадный комиссар, начальник политотдела армии.
На рассвете следующего дня я улетел на самый дальний наш аэродром. Самолет взял курс на юго-восток и через несколько часов болтанки опустился на огромном поле у небольшого городка, где мне никогда ранее не приходилось бывать. Здесь в боевой готовности стояли бомбардировщики дальнего действия, и командир и комиссар полка находились тут же, провожая на очередное боевое задание своих летчиков.
Фронт был далеко, здесь как будто глубокий тыл, маленький городок на замерзшей реке раскинулся в тишине и покое среди нетронутых снегов. Но аэродром жил напряженной жизнью… Трудно сравнивать самолеты тех лет с сегодняшними могучими машинами сверхзвуковых скоростей, с их ракетным вооружением… Но по тем временам наши дальние бомбардировщики в умелых руках были грозными для врага… Бомбардировщики совершали боевые вылеты в дальние тылы противника и уже в 1941 году долетали до самой Германии и бомбили ее города.
«Тихвин — это прелюдия», — записано в моей фронтовой записной книжке в декабре 1941 года. Прелюдия к будущей симфонии Победы… Здесь у летчиков-дальнебомбардировщиков в январе 1942 года мы уже видели крылья Победы!
1941—1975 гг.
«Живем правильно!..»
Стоял один из тех дней начала осени, которые особенно хороши на Урале. В вагоне не оторвешься от окна. Всеми красками щедро украшает природа леса и горы, будто хочет, чтобы до новой весны люди не забыли ее красоту. Невольно поражаешься бессчетным оттенкам зеленоватого цвета, то там, то тут освещенным бликами яркого золота. Причудливые голубые и синие очертания дальней кромки леса и еще более далекой линии пологих гор как бы плывут в легком прозрачном воздухе…
Ранним утром наш поезд подошел к небольшой станции. Я вышел из вагона и медленно бродил по шпалам, усыпанным свежим песком. Тишина леса радовала, и мелкий дождь, бесшумный, спокойный, весь пронизанный лучами восходящего солнца, совсем не беспокоил. На соседний путь подошел встречный поезд, и тишина лесного полустанка сразу взорвалась. С грохотом растворились двери товарных вагонов. Веселые призывы на красном полотне «Не пищать!» были размыты встречными дождями и вздувались на ветру, словно видавшие виды потрепанные паруса. Со смехом и шутками на перрон высыпали парни и девушки. Казалось, к лесному берегу пристал веселый корабль молодости. Комбинезоны, ковбойки, спортивные куртки, беззаботные песенки и усталые, но сияющие лица… Конечно же, это был один из многих в те дни эшелонов молодежи, направляющейся на целинные земли.
Я проходил мимо эшелона и, как это всегда бывает с пожилыми людьми, с легкой завистью глядел на молодые лица. Мое внимание привлек парень в ковбойке. Ничего необычного не было в его простом лице с немного приплюснутым носом и серыми глазами. Он бойко разговаривал с девушками… Нет, я никогда не видел его, не встречался с ним. Но что-то необъяснимо знакомое было в его голосе. Я остановился невдалеке. К открытым настежь дверям вагона подошел мужчина с красной повязкой на рукаве — видимо, начальник эшелона.
— Как жизнь, Виктор?
— Живем правильно, товарищ начальник! — четко ответил парень в ковбойке волнующе знакомым, глуховатым басом. Он, смеясь, приложил руку к маленькой мятой кепке, одетой набекрень, и стал что-то рассказывать, быстро загибая пальцы на руке.
Я смотрел и слушал, но память уносила далеко. Перед глазами вставал другой, далекий лес, озаренный слабым светом раннего утра, пронизанный мелким дождем, а глухой бас произносит те же памятные слова: ж и в е м п р а в и л ь н о!..
И я вспомнил.
То было в первую осень Отечественной войны на Лососинских лесных болотах. Как сообщали в те трудные дни сводки Советского информбюро, наши части вели упорные бои с немецкими и финскими войсками, рвавшимися к Ленинграду. Мы вкусили уже и горечь отступления и боль дорогих потерь, но самым тяжелым для всех нас — от солдата до командующего армией — была невозможность остановить противника. Со стыдом и гневом, с ненавистью к врагу и неугасимой надеждой на лучшие времена брели мы в нестройных колоннах отходивших войск, прижимались к сырой земле во время минометных и артиллерийских налетов, рассыпались по лесу, услышав такое живительное, а тогда смертоносное слово: «Воздух!»… И как радовались каждому контрудару, какого бы малого местного значения он ни был. Все же это был контрудар, удар по ненавистному врагу.
Находясь всегда на передовой, мы, политработники, были своими в каждом батальоне, в каждой роте.
В первый день войны в Ленинграде нас было четверо, старых друзей. Ефим Томин — астроном из Пулкова, человек огромнейшего роста, похожий скорее на борца. Он уверенно говорил неожиданно шепелявым голосом о том, что к весне, во всяком случае, надеется вернуться к своим делам, чтобы летом будущего года поспеть в экспедицию. Товаровед Ленинградского Дома книги Анатолий Киприн курил папиросу за папиросой, часто снимал не привычную еще пилотку, вновь и вновь нервно застегивал ремень скрипящей портупеи и сквозь зубы ругался, останавливаясь у скульптур Летнего сада, уже одетых в безобразные деревянные панцири — от бомбежек. Миша Долгих — токарь с завода «Вулкан» — не отрывал глаз от решетки Летнего сада, как будто надолго запоминал ее легкие очертания…
Когда мы встретились в сентябре, нас было уже трое.
Фронтовая жизнь, как бы тяжела она ни была, входит в свою колею, и человек обживает и временную землянку, и окоп, и кювет у дороги. И все же нельзя сказать, чтобы нам было уютно в неглубокой, наспех отрытой в земле яме, под обрывом. Каждый удар снаряда обдавал земляным дождем, песок, казалось, проникал во все поры тела. Но мы с Киприным были рады короткой встрече на КП роты Миши Долгих, где недавно погиб наш друг Томин. Сколько слов было сказано за общим котелком «хозяина дома», как именовал себя комроты, сколько воспоминаний и надежд!..
Здесь на рассвете и застал нас приказ о контрударе. Нет, то не был еще один из тех контрударов, которые потом изменили ход войны. В те трудные дни мы называли этим бодрящим словом каждую контратаку. Пусть ее не отмечали сводки Совинформбюро, но по всей армии, по всей линии фронта, из окопа в окоп, из землянки в землянку передавалась весть о том, как рота лейтенанта Н. «дала жару» фашистам, водрузив Красное знамя на высоте Безымянной. Пусть высотка эта не помечена на стратегических картах армейского и даже дивизионных штабов, но как дорого сердцу бойца Красное знамя на безымянном холмике, на болоте, отбитом у врага на нашей земле. Какие думы и мечты порождает, какие сны навевает в тревожные часы коротких фронтовых ночей такая весть! Мы верили: отсюда начнется наш долгий и трудный путь на Берлин.
А пока мы были озабочены выполнением приказа. Обстановка сложна и тревожна. Прямо на нас лесом, без дорог, отходили части соседнего полка. По пятам за ними шли войска противника. Тут же оказался штаб нашей дивизии со всеми документами и полевой госпиталь с тяжелоранеными. Отходить дальше — значило обречь на уничтожение множество людей, поставить под угрозу госпиталь.
Весь день из разрозненных групп наших солдат и офицеров, выходивших из-под обстрела, мы спешно формировали взводы, роты, назначали командиров, политруков, пополняли вооружением.
Контратака должна была начаться с рассветом. Весь наш замысел строился на том, чтобы нанести удар с трех сторон, создать видимость окружения и заставить противника хоть немного отступить. За это время части приведут себя в боевой порядок, а госпиталь сумеет отойти в дальние тылы.
Детальный план операции быстро разработали штабники дивизии, а мы всю следующую ночь готовили бойцов к атаке. Приглушенно говорили о Ленинграде, о партии, о семьях и детях; обстрелянные солдаты давали советы новичкам… Я всматривался в лица бойцов. В полумраке хорошо были видны только глаза, я видел в них раздумье и печаль, холодный блеск гнева, лихорадочные искры ненависти.