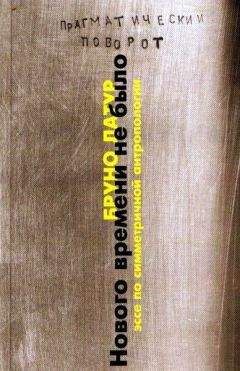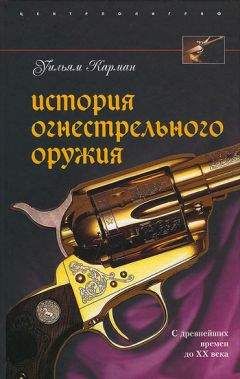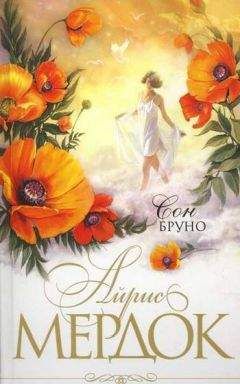Бруно Апиц - В волчьей пасти
Кремер был потрясен, осознав чудовищность такого положения.
— Правильнее было бы, если бы я своевременно поговорил с тобой, — продолжал через некоторое время Бохов. — Тогда ты забрал бы у Гефеля ребенка раньше, чем до него добрался Цвейлинг…
Кремер молча кивнул.
— Послушай, Вальтер, ты должен выведать, стойко ли держится Гефель. Мы не можем проникнуть в карцер. Как это устроить, ты сам решишь. Я даже не могу ничего посоветовать. Может быть, привлечешь Шюппа.
Кремер уже и сам подумал об этом.
— Сразу же сообщай мне обо всем, что узнаешь. Тебе теперь ясно, в чем дело. Будь осторожен, Вальтер! Кого бы ты ни привлек, говори ему лишь самое необходимое, а об остальном — молчок!
— Этого ты мог бы мне и не объяснять, — проворчал Кремер.
Бохов похлопал его по плечу.
— Знаю, знаю…
Не в натуре Бохова было терять при опасности голову. Он был мужествен, но без лихости, он взвешивал, наблюдал, рассчитывал. Если Бохов что-либо признавал правильным, он осуществлял это медленно, но настойчиво, нередко даже без ведома товарищей. Так же, например, он действовал в августе 1944 года, когда, воспользовавшись общей неразберихой после налета американской авиации, удалось припрятать и пронести в лагерь шесть карабинов.
Бохов получил тогда задание как можно скорее спрятать драгоценное оружие в абсолютно безопасном месте, притом так, чтобы оно в любое время было под рукой и не подвергалось порче. На следующий же день он доложил ИЛКу о том, что выполнил поручение. На вопрос, где спрятано оружие, он ответил: «В лазарете», но категорически отказался указать тайник более точно.
— Если бы я обсуждал с вами это место, вы, безусловно, были бы против.
Товарищи испугались: вдруг что-нибудь не так? Но он отмолчался.
— Ищите, — говорил он, равнодушный ко всем упрекам и сомнениям. — Тому, кто найдет карабин, я уступлю свой хлебный паек за неделю.
Ван Дален, работавший в лазарете, облазил все закоулки. Кодичек и Прибула, как только им в течение дня представлялся случай побывать в лазарете, обшаривали взглядом все места, которые, по их мнению, могли служить тайником. Эта игра в прятки вызывала в них досаду, а Бохова веселила. Только Богорский не принимал в ней участия.
— Уж если Герберт делает, то делает как надо!
* * *Однажды в воскресный день в конце августа Бохов вместе с Кодичком и Прибулой направился в сторону лазарета. К ним присоединился ван Дален. И вот все четверо сели на скамью напротив главного барака. Они пришли сюда, потому что Бохов выразил наконец желание показать им тайник.
— Ты скорее говорить, где они, — торопил его Прибула.
Он подразумевал карабины. Бохов улыбнулся уголками рта.
— Да ты сидишь перед ними!
Прибула и другие стали посматривать исподтишка на стену барака. Бохов помог им, молча кивнув головой в сторону зеленых цветочных ящиков на окнах. В этих ящиках цвела красная герань.
Ван Дален смекнул первым.
— Там, внутри? — пораженный, прошептал он.
Бохов подтвердил взглядом. Все безмолвно уставились на цветочные ящики. Бохов дал товарищам подивиться вдоволь.
— Согласились бы вы со мной, если бы я предложил вам это хранилище?
Никто не ответил, но все явно были недовольны.
— Это рискованно, — сказал наконец ван Дален.
— Но надежно, — быстро добавил Бохов. — Кто ищет спрятанное, роется в углах, но проходит мимо всего, что лежит у него под носом, а кроме того…
Бохов запнулся. Какой-то эсэсовец свернул с дороги к главному бараку. Он шел мимо цветочных ящиков, не обращая на них внимания. Но перед последним, ближайшим к входной двери, остановился. Что-то в этом ящике возбудило его интерес. Прибула испуганно схватил Бохова за руку. Они увидели, как эсэсовец выпрямил цветок, свисавший из ящика, и вдавил его стебель в землю. С невероятным напряжением следили они за его действиями. Бохов уверенно улыбался. И как только эсэсовец исчез в бараке, он с улыбкой продолжил прерванную фразу:
— …а кроме того, сентиментальная бестия губит людей, но не цветы…
Все молчали. Эта сцена их убедила.
Поручение выполнено, — спокойно сказал Бохов. — Вещи спрятаны в безопасном месте, они в любое время под рукой и защищены от порчи: Кён тщательно завернул их в промасленные тряпки.
При расставании Бохов прищурил один глаз.
— Могу я оставить хлебный паек себе?
Ван Дален, качая головой, ушел назад к себе в лазарет. Прибула в знак одобрения дал Бохову тумака.
Бохов смеялся.
Зима прошла. Герань давно завяла. А цветочные ящики по-прежнему стояли на окнах. Никто не обращал на них внимания. Сухой и невзрачной была в них земля…
Теперь Бохов уже не был так спокоен, как недавно. Он пошел к Богорскому. Дорог был каждый час, ибо каждый час могла разразиться ужасная беда. Боясь упустить время, Бохов решился нарушить заповедь осторожности. Он искал случая, чтобы посоветоваться с Богорским, и случай пришел ему на помощь.
Шарфюрер бани бездельничал в своей комнате, душевая была пуста, а заключенные заняты тем, что перетаскивали в дезинфекционное отделение тряпье, которое сбросили с себя прибывшие с недавним эшелоном. Богорский был там же. Быстро приняв решение, Бохов взялся за работу, сгреб в охапку тряпье и направился с другими заключенными в дезинфекционную. Богорский, тут же поняв смысл его поведения, незаметно пошел вслед за ним. Заключенных им нечего было опасаться, а в дезинфекционной камере им никто не помешает, Они остановились позади наваленной грудой одежды, откуда могли наблюдать за входом. Богорский уже знал об аресте.
— Если они отделают Гефеля… Если он не устоит…
Молча смотрели они друг на друга. Богорский развел руками. Он не знал, что сказать, опасность была так огромна, что они почти не решались о ней говорить. Темная и зловещая, горой надвигалась она на них. Они понимали свою беспомощность. Что могут они сделать, если Гефель назовет хоть одно имя?
Тогда цепь размотается! И увлечет всех в пучину. Как хорошо ни была замаскирована их организация, она все же состояла из людей, правда — решительных и готовых идти навстречу любой опасности. Однако там, в отрезанных от лагеря камерах карцера, царили другие законы. Там человек был наедине с самим собой, а кто может сказать о себе, что, несмотря на телесные и душевные пытки, он останется тверд как железо и не превратится в жалкую тварь, в истерзанный ком человеческой плоти, в котором перед лицом страшной боли и неизбежной мучительной смерти не возобладает голая жажда жизни и не окажется сильнее воли и мужества? Каждый из них давал клятву скорее умереть, чем совершить предательство. Но соблюдение клятвы зависит от духовной силы человека, которую трудно определить заранее.
Быть может, уже в эту минуту Гефель лежит изувеченный в камере, с душевным трепетом думает о жене и детях и, слабея, называет одно-единственное имя, имя, которое он, возможно, считает не столь важным. И вот цепь начинает разматываться.
Кто из тысячи членов групп Сопротивления может с уверенностью сказать, что там, в камере, у него окажется достаточно сил, чтобы выстоять до конца?
— Провал вполне возможен, — прошептал Бохов. Богорский, молча глядевший в одну точку, вздрогнул.
Потом печально улыбнулся, как бы отметая путаницу неспокойных мыслей и преодолевая минутную слабость.
— Что будет, — тихо произнес он, — мы не знаем. Мы еще ничего не знаем.
Лицо Бохова потемнело.
— Мы должны доверять Гефелю, — сказал Богорский.
— Доверять, доверять! Ты так уверен, что он выдержит?
Богорский поднял брови.
— Разве ты можешь знать это обо мне? Или о себе? Или о других?
Бохов недовольно отмахнулся от жестоких вопросов. Конечно, никто этого о себе не знает. Вот потому-то Гефелю и не следовало впутываться в историю с ребенком. С самого начала. Ну, а что вышло? Сперва он прячет ребенка у себя, потом совершает грубое нарушение дисциплины, а теперь сидит в карцере и… и…
— Ты тоже допустил здесь ошибку.
— Я?.. — вспыхнул Бохов. — При чем тут я?
— Ты говоришь, это не твое дело, это дело Гефеля.
— Ну и что? — защищался Бохов. — Разве я не дал Гефелю указание убрать ребенка из лагеря?
— Кто это сказал? Твое сердце это сказало?
Бохов в ужасе всплеснул руками.
— Ради бога, Леонид, к чему ты клонишь? Разве мало того, что Гефель, послушавшись голоса сердца, сбился с пути? А теперь ты требуешь, чтобы я…
— Нехорошо, очень нехорошо! — Богорский в раздражении наморщил лоб. — Ты сделал ошибку от ума, а Гефель — от сердца. Голова Герберта и сердце Андре действовали врозь. И это нехорошо.
Бохов не возражал. Ему были чужды рассуждения, которыми руководит чувство. Он сердито бросил в кучу принесенные им вещи и с угрюмым видом слушал упреки Богорского.