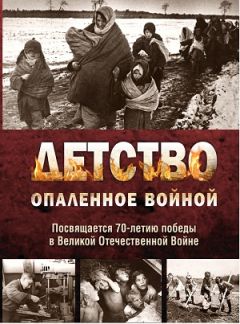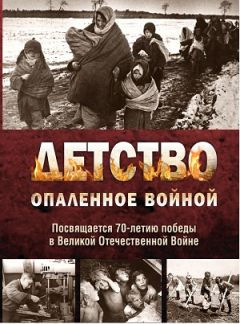Елена Ржевская - За плечами XX век
Если б это сказал кто-то другой, допустим командир взвода, мы б едва стерпели. Сами сознательные. «Взлет. Прыжок – гибель фашизму!» Но Крандиевского мы не просто слушаем, мы внимаем ему.
Мы напряженно стараемся уловить в его словах что-то новое, известное лишь нашему командованию, что-то обещающее перелом в событиях.
Еще недавно по Волге на баржах, буксирах и пароходах приплывали к нам сюда всевозможные вести. Теперь – нет. Закованная льдом Волга отрезала нас от внешнего мира. Ни вестей, ни новых впечатлений. Осталось одно – Ставрополь.
А уедем – что запомнится?
Истрепанная в боях дивизия, бредущая через город. Бравурный параграф вражеского устава: «Наступательный дух немецкой пехоты». Белуха на снегу – бездомье. Поручик Лермонтов без шинели. Мешок с трофейными документами, который знает, что такое война, куда основательнее наших преподавателей. Немецкие сложносоставные военные термины, трудно поддающиеся запоминанию, и легко заводящиеся вши, прозванные одним из этих терминов.
И надо всем как девиз – наш не слишком осознанный ближний удел: «Взлет. Прыжок – гибель фашизму!»
Крандиевский внезапно прерывает себя и просто, не по-военному объявляет:
– Мы бы еще о многом поговорили, да вот обувь на нас что-то не по сезону. – И вскинув голову, звучно, упруго и чуть грассируя, командует: – Рра-зойдись!
Мы расходимся, унося ощущение ласки и смутной надежды на что-то хорошее.
Думаем ли мы о фронте? Да о чем же еще нам думать? Мы говорим о нем на уроках, в столовой и в комнате. Все больше шутливо, обыгрывая поведение каждого из нас на фронте.
Трудно облекать в мысли то, что не можешь себе толком представить. Фронт – это что-то грандиозное, без очертаний, там нет ни тебя, ни меня, только ярость, кровь, скрежет необходимость превозмочь врага.
Глава четвертая
1
Ветер с Волги. Пробирает до костей. Идешь против него, согнувшись, бодаясь. Наподдаст еще – и загонит последних прохожих по домам. А дома завалило снегом по самые оконца, скованные морозом, слепые или слегка мерцающие. Покорный уют тылового городка, оставшегося на попечении старух.
От крыльца – по целине пробоины в снегу, – топя валенки по край голенища, с коромыслом на плече, выныривая из снега и опять погружаясь, подплывают к колодцам хозяйки. На их обратном пути вьются за ними по снегу змейки – схваченная морозом расплесканная вода.
В эти глухие, забитые снегом улицы ворвалось поздним вечером известие: немцев гонят от Москвы! Мы не усидели, рванулись наперехват ветру. Влетели в общежитие к парням, обнимались на радостях. Стянув брезентовые сапоги, оттирали окоченевшие ноги. Кстати, как ухитриться сохранить в целости ноги до фронта – вот задача.
Мы что-то пели, стоя в чулках, счастливые, растроганные. Было необычайно празднично. Хотя в самом общежитии у ребят до чего ж угрюмо, неприютно – и неметеный пол, и закопченные стекла на лампах, и запах портянок.
Мы бежали назад рысцой, притопывая, пристукивая сапогом о сапог.
Потом пришло письмо от брата: «У нас тут немец побежал…» Какое счастье иметь брата. Живого! Бойца конной разведки. Не могу представить себе, как он седлает коня, взлетает на него и скачет в разведку. Но он жив, он в конной разведке, а немец отступает.
2
Теперь у нас одна забота – не замерзнуть, добраться до фронта. Снарядят ли нас, как положено, – пока не слышно про это. Дадут ли, нет ли другую обувь – неизвестно. В брезентовых стометровку возьмешь, а дальше заковыляешь на обмороженных. Эти сапоги мигом набирают холод, деревенеют, и ноги у нас стали пухнуть. Пропадет аттестованный «военный переводчик», так и не представ по назначению в действующую часть.
К счастью, мы прибыли в Ставрополь в собственных пальто – обмундирование девушкам выдали только тут. В Москве мы к занятиям на курсы допущены не были и числились принятыми условно. Лишь в последний момент, перед отплытием, поступило указание, что можно зачислить лиц женского пола.
Я нашла покупательницу случайно, на почте, – немолодую крупную женщину в стоптанных фетровых ботах, с морковкой в авоське. Она жена летчика. Эвакуированная. Я сняла с гвоздя почти новое драповое коричневое демисезонное пальто, которым гордилась. Воротник – стоечкой, прорезные карманы. Ничего более красивого мне не доводилось носить, и если б можно, я не рассталась с ним.
Под пристальными, выжидающими взглядами Ники, Анечки, Зины Прутиковой женщина примерила пальто. Оно ей было тесно. Поразмыслив с минуту, она решила: за зиму исхудаешь на пайке, – и взяла пальто, назвав свою цену.
Наша комната насупленно следила за сделкой. Женщина достала из сумки кучу мятых денег, положила на стол и ушла, перекинув через руку мое драповое пальто.
– Плоды деликатности, – сказала Ника. – Красиво, но убыточно.
Ближайшим воскресным утром, искристым, тихим, подрумяненным солнцем, я отправилась на базар.
Меня обогнали груженые сани. Правил мальчонка лет двенадцати. В санях везли, должно быть, овощи, заваленные лоскутными одеялами, чтоб не поморозило. На одеялах сидела огромная баба в тулупе и в расшитой цветным гарусом черной широкой юбке из-под него.
Навстречу с базара шла горожанка в плюшевом салопе, держа мешок на руках, как ребенка. В мешке бился и отчаянно визжал поросенок.
На базаре все смешалось: промысел, азарт и беда.
Торговка уже опорожнила, меряя свой товар стаканами, один мешок подсолнухов и затолкала в него выручку.
Картошка шла по какой-то баснословной цене, а больше в обмен на мыло, на спички, соль, фитили, талоны на керосин и еще на что-то. Непонятно, как устанавливалась меновая стоимость, но стороны твердо знали, на что они могут претендовать.
Чуть поодаль была «толкучка»… Трикотажная сорочка с кружевами – ее держат за бретельки огромные негнущиеся рукавицы. Испорченные стенные часы в деревянном футляре. Застиранное байковое детское платье. На чьем-то плече, как голубь, – модельная туфелька. А дальше – домотканый половик, самовар с вмятыми боками.
Наконец я отыскала валенки, подшитые, разляпистые. Их продавал старик беженец из Белостока. Я его видела – он вместе с женой ходит в военкомат справляться о пропавшем без вести на фронте сыне.
Детский башлык укутывал старика по брови, концы скрещивались под подбородком и, обхватив шею, узлом лежали пониже затылка. Из башлыка высовывался сизый нос и клубок спутанных, заиндевелых усов под ним.
Я спросила цену. Дремлющий птичий глаз, подернутый пленкой, приоткрылся:
– Я думаю, сто пятьдесят рублей, пани. Они еще вам хорошо послужат. Это еще очень хорошие валенки, мадам.
Это было недорого, и я полезла в карман за деньгами. К нам семенила старушка в мужской ушанке, повязанной драной шалькой, спрятав руки в крохотную муфточку.
– Почем это? – спросила она и, высвободив из муфты ручку, ощупала валенок.
Старик назвал цену и сказал, что пани военная подошла раньше.
– Так дешево! Ах, мой бог! – Следя за мной, пока я доставала деньги, старушка все сожалела, что прозевала такую выгодную покупку.
Мне стало не по себе от наивной, несчастной хитрости этих обездоленных стариков. Поскорее расплатившись и схватив валенки, я скрылась в толпе.
А тут откуда ни возьмись – Витя Самостин! Помахивая рукой и что-то крича, он пробивается ко мне. Мы обнялись. Откуда он взялся? Шинель на нем не наша, не курсантская. Похоже, он на службе в кумысосанатории, у Биази. Так оно и есть.
Война всех нас, однокашников, раскидала и так вот причудливо сводит вдруг.
Я тут же переобулась. Валенки немного намерзли – но все же какое это блаженство, когда ноги в валенках.
Теперь мне ничто не мешает разглядеть Самостина. Военная форма каждого меняет на свой лад. Самостину она придавала более отесанный вид. Обычно голова его, напряженно откинутая назад, была втянута в приподнятые плечи, и руки у него, казалось, коротковаты. Теперь, в шинели и шапке, он не то стройнее, не то внушительнее.
Он приехал, чтобы поступить на литературный факультет, из Сибири, с новостройки, где отец его был десятником. Узнав, что самый большой конкурс на отделение западной литературы и языков – семнадцать человек на место, – он подал заявление именно на это отделение. Ночевал он на вокзале, не ведая о том, что приезжие обеспечиваются общежитием на время экзаменов.
Мы с ним оказались в одной группе английского языка. Преподавала нам красивая женщина, по фамилии Тедерольф, скандинавка, учившаяся в Кембридже. Когда она появлялась на своих стройных и крепких спортивных ногах, внося атмосферу энергии, знаний и женского успеха, – вся группа, увлеченно глядя ей в рот, на лету хватала пояснения. Самостин не поспевал. Если она обращалась к нему с вопросом, он еще больше втягивал голову в плечи и принимался перекатывать во рту камни, чудовищно искажая произношение английских слов.
Он вообще говорил туго, затрудненно и казался невосприимчивым к культуре парнем. Тедерольф билась с ним и отступила.