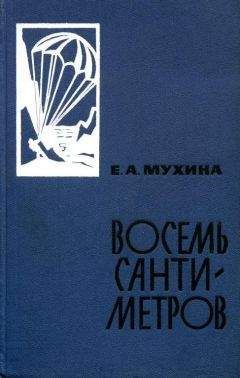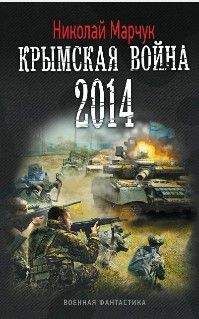Кристина Живульская - Я пережила Освенцим
По словам лойферки, Стеня нашла стихи у кого-то во время обыска и немедленно передала по начальству. Оберка так и кипит от злобы. Стихи перевели на немецкий, и теперь велено разыскать автора.
Я вспоминаю, что та, у кого стихи были найдены, знает меня. Имея представление о методах следствия в Освенциме, отдаю себе отчет, что дело мое плохо.
С этой минуты ожидаю вызова гестапо. Подруги взволнованы. Стараются утешать, но чувствую, — уже смотрят на меня, как на покойника. Неля рвет все листки с моими стихами. Со странной радостью я наблюдаю за тем, как другие ссорятся с ней. Не дают ей делать это, твердят, что они спрячут, закопают в землю. Они хотят во что бы то ни стало сохранить стихи.
Светловолосая Эдка, одна из самых молодых в нашей команде, знает наизусть все мои стихи. Она заучивала их долгими вечерами. Теперь она успокаивает других:
— Можете уничтожать, нельзя ведь подвергать ее опасности. Я вам прочту все наизусть. — И добавляет тише: — В случае чего…
Она подходит ко мне и всматривается в меня так, словно изучает каждую черту лица.
Она меня любит, но я знаю, что особенно ей жаль моего «творчества». Она постоянно следила за мной, то и дело спрашивала: «Ты написала что-нибудь новое?»
Валя прислала мне записку. Положение серьезное. Пойманную со стихами все еще допрашивают. Взяли еще одну. Зовут ее Алина Обрончкевич. Как и мы, она из Павяка. Незачем обманывать себя, надо ждать «гостей» из гестапо.
Иду в жилой блок, уверенная, что это мой последний вечер. По прошествии нескольких минут блоковая вызывает мою фамилию. Ноги не слушаются меня, с трудом подхожу к дверям барака. Оборачиваюсь, чтобы в последний раз посмотреть на лица подруг. Сейчас меня встретят другие лица, страшные лица гестаповцев. Начнется допрос. Алинка, наша милая штубовая, входит в эту минуту в барак с огромной коробкой.
— Кристя, тебе посылка.
— Что? Это ты вызвала мою фамилию?
— Я, а что случилось? Почему ты такая бледная?
Беру посылку. Узнаю почерк дорогого, близкого мне человека, отрезанного теперь от меня тысячами миль. Отправитель: Пудловский. Начинаю искать в коробке и нахожу карточку матери. Ее добрые глаза смотрят с мольбой: «Живи! Ради меня — живи!» — просят они.
И это именно сейчас… сегодня…
Неля, Бася, Яся, Эдка и другие обступают меня. Рассматривают карточку матери. Слезы стоят у них в глазах.
Что-то рвется у меня в душе, я начинаю рыдать.
Неля гладит меня по голове.
— Нет, ты не можешь погибнуть. Это хороший знак, что именно сегодня пришла карточка твоей матери. Ты же знаешь, что посылки никогда не приходят тому, по чьему делу ведется следствие. А к тебе пришла. Вот увидишь, Кристя, произойдет чудо: никто тебя не выдаст, никто не назовет автора.
В эту ночь я ложусь, не раздеваясь. Несмотря на утешения Нели и других, я не верю в чудо. Лежу без сна, не отрывая глаз от дверей. В висках у меня стучит. Я сжимаю в руке карточку матери. Мне так жаль расставаться с жизнью, а ведь все месяцы, проведенные здесь, мне казалось, что я ею совсем не дорожу.
В напряженном ожидании медленно проходит час за часом. При малейшем шорохе я вскакиваю. Нет, это только сентябрьский ветер шевелит сухую листву орешника, маскирующего ограду крематориев. Мысленно прощаюсь со всем, что любила. До конца понимаю бессмысленность своего существования. Значит, затем я перенесла тиф, лагерную грязь, апели, чтобы теперь, когда близится освобождение…
Ночь на исходе. За оконной решеткой сумерки рассвета. В бараке вспыхивает лампочка. Бася приоткрывает один глаз.
— Ну… никто не был, не приходили?
Не могу удержаться от смеха.
— Наоборот, были, но не хотели будить тебя. Потихоньку забрали меня и убили.
Бася начинает громко припевать, нарушая тишину еще не проснувшегося барака:
— Глупая Кристя, глупая Кристя, не придут, не придут, будешь жить, будешь жить…
После нескольких дней волнений появляется надежда. Наконец получаю записку от Вали: «Алинка Обрончкевич на вопрос, кто написал стихи, решительно заявила, что Луция Харевич, умершая в 1943 году. Я уверена, что она не изменит показания. Тебе везет, Кристя. Прошу тебя, напиши что-нибудь красивое. Какая радость, что оберка и остальные ведьмы прочли, что мы о них думаем. Обе допрошенные поедут со штрафным транспортом. Теперь это для них, может быть, и лучше».
Глава 5
«Лягушки»
Жизнь проносилась вне времени, как в горячечном бреду. От воскресенья до воскресенья. Дни недели ничем не отличались для нас один от другого. Только когда лойферка возвестит свистком конец работы в двенадцать часов дня, мы знали — это воскресенье.
А лагерь все пополнялся. Со всего света пригоняли сюда новые и новые транспорты. За разные «преступления»: за высказывания о режиме, за газеты, за сомнительное происхождение, за саботаж, за неявку на работу, за самовольное продление отпуска. Сюда же отправлялись захваченные в облавах. Из Вроцлава, Гамбурга, из Берлина. Польки, русские, итальянки, француженки. Политические и «асоциальные». Привозили рейхсдейчек, наказуемых за помощь угнанным из других стран или за романы с поляками. В лагерь бросали матерей за то, что они ложились под поезд, увозивший их сыновей на фронт.
Большими транспортами прибывали и прибывали бледные, исхудалые мужчины, евреи из гетто. Эти уже утратили человеческий облик. Лица их ничего не выражали. Лихорадочный взгляд в запавших глазницах, обтянутые кожей скулы. Для них в лагере почему-то существовало прозвище: «мусульмане». Глядя на них, мы думали только об одном: «Где взять хлеба? Откуда взять столько хлеба… Как их накормить?..
Долго смотрели мы на них, в конце концов приходилось просто отворачиваться и говорить себе первые пришедшие на ум слова для самоуспокоения.
Из разных участков Лагеря приходили к нам девушки и рассказывали, сколько человек ежедневно умирает. И как умирают. Как вылавливают людей на работу на территории лагеря. Как затем ведут голых, больных, полуобезумевших людей в ревир, на верную смерть. Рассказывали, как ежедневно на Лагерштрассе вновь прибывшие заключенные дерутся — со старыми из-за ложки супа, из-за порции прокисшей брюквы. И ежедневно то один, то другой блок в наказание стоит на коленях у ворот. Стоят за плохо повязанные платки, за то, что сбились с ноги в марше, стоят ни за что ни про что, по капризу оберки или Таубе. Мы слушали бесконечный рассказ о том, как в ревире одни умирают от голода и истощения, а возле них, на тех же кроватях, умирают от заразных болезней другие, «зажиточные», и рядом с ними стоят их невскрытые посылки, полные филейной колбасы, консервов, шоколада.
Все это я знала, знала слишком хорошо. Я слушала рассказы, и мне казалось, что жизнь никогда и не была иной. Попеременно меня охватывали ненависть, жажда протеста, апатия и, наконец, всегда и над всем берущее верх чувство бессилия.
Весна хлынула ошеломительным потоком. Она хлынула через проволоку, неустанно неслась вдоль бараков, зеленела в березках, золотила касатник, окаймлявший белый домик на опушке рощи. Но, глядя из окна на шествие весны, мы ни на минуту не могли забыть о том, что стены внутри этого домика забрызганы кровью. Весенняя лазурь неба была скрыта от нас черным дымом от сжигаемых человеческих костей.
При мысли о том, что где-то на свете есть Варшава и Висла, сердце сжималось в нестерпимой, мучительной тоске.
По вечерам, после отбоя, когда в бараке был погашен свет, начинался час воспоминаний. Шепотом рассказывали мы друг другу о своем недавнем прошлом, о том, где были год, два года назад… и как там было в эту пору.
За последние месяцы мы заметно окрепли. Быстрее росли волосы, следы чирьев на теле бледнели. Мы часто мылись, белье брали в «Канаде», все-таки мы были в привилегированном положении. Из многих тысяч женщин в лагере так жилось только нашей команде, то есть каким-нибудь шести десяткам человек.
Зося вбежала в нашу шрайбштубу с таинственным видом.
— Тебе письмо, от Анджея.
Я отправилась в уборную, это было единственное место, где удавалось позволить себе недозволенное: выкурить папиросу, прочесть письмо, поделиться вольными мыслями о лагерном начальстве…
Анджей писал о своих чувствах. «Это странно, неправда ли — у меня тут много товарищей, друзей, а я ухватился за эту мысль, чтобы дружить с тобой. Видно, необходима мне твоя дружба. Не знаю, так же ли чувствуете вы, женщины, но мы сильнее всего испытываем тоску по любви. Наверно, это смешно — ведь нет никакой надежды, что мы с тобой когда-нибудь встретимся, я не верю, что выйду отсюда. Давно уже потерял надежду. Но все же письмо, полученное от женщины, облегчает лагерную жизнь. Поймешь ли ты, чем было для меня твое коротенькое письмецо?
В моем воображении ты осталась прекрасной, хотя, по правде говоря, тогда там, в ракитнике, ты совсем не была такой. Ты была лысым, вшивым полосатым халатом… А солнце грело так же, как сегодня… помнишь? К сожалению, я больше не хожу уже на берег Солы. Сижу в большом, темном бараке и тоскую по свободе.