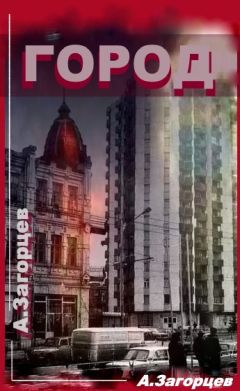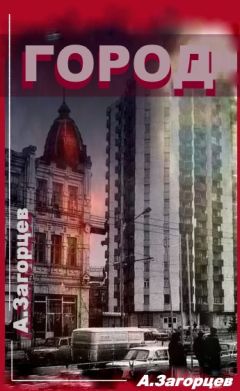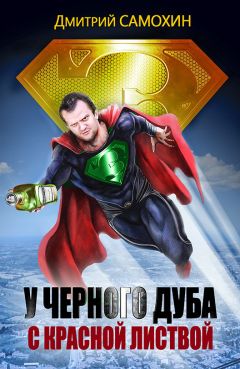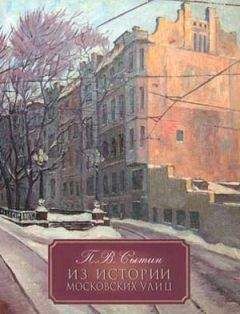Исаак Гольдберг - Никшина оплошность
— Нам бы, ваше благородье, рази в эту сторону подаваться?.. Здесь никаких партизанов. Здесь спокойно. Вот ежели за Пьянову через хребты, тамока, может быть, и достигли кого... Неправильное направление дадено командиром...
Власов таращил сонно глаза и, стараясь быть внушительным, отвечал:
— Ну, ну... Начальство, брат, дело знает... Не глупей тебя...
— Да я знаю, что не глупей, а только никакого резону нет нам здесь шарить. Только комаров кормим...
И тут быстро сунулся, уминая траву, топча кустарники, солдат сторожевой: нагнулся к начальству, красное, возбужденно-веселое лицо показал и:
— Вашблагородье! С долинки подбирается к нам кто-то!..
Вскочили, сорвали сон с себя, перешагнули через дымокур. Сразу движенье. Разобрали солдаты ружья из козел. Приказанье. Рассыпались, залегли, притаились. Ждут.
Хлеснуло по ветвям, шарахнуло, запело. Начался обстрел.
10.
Ребята, не заходя в улицу, остановились, посовещались меж собой и сказали Никше:
— Иди-ка ты, дядя, от нас!.. Да лучше всего схоронись где-нибудь. Неровен час, вернутся белые, нагрянут в Никольщину и спустят с тебя шкуру, да не одну.
Удивился Никша:
— Пошто же это хорониться?.. — Но ребята засмеяли его, стыдно ему стало, он и ушел от них.
А они забрали солдата пленного, повернули к поскотине и пошли какой-то своей дорогою.
Подумал Никша: когда еще белые вернутся, можно успеть дома побывать, у соседей потолкаться, — может, и самогонкой где угостят.
Побывал Никша у себя: неприглядно, пусто у него в избе. Кто-то с поветей жерди утащил, четыре жердины хорошие. Ругнулся Никша, разволновался. Обошел соседей, рассказал бабам про мытарства свои. Всюду застал беспокойство, тревогу; везде не до Никши. Горько ему стало — пошел он, как к последнему пристанищу, к Макарихе.
У Макарихи изба на самом краю деревни, так же, как у Никши. Макариха тоже, как и Никша, бобылкой жила. И, как и он же, лекарила, только по бабьей части. Поэтому, может быть, и дружба была промеж них стариковская. Дружба, над которой в деревне посмеивались изгально:
— Вот бы эту пару под венец!.. Наплодили бы они вшей!..
Застал Никша Макариху за суетней какой-то бабьей. Взглянула старуха на него, удивилась:
— Чего это ты, Никон Палыч, ни тверез, ни пьян? Откуда?
Сморщился Никша, разжалобился.
К другу своему, можно сказать, единственному пришел, да и тут смешки да хаханьки.
— Ты бы, Савельевна, с мое перетерпела, так тоже и протрезвилась-бы и опьянела! Да... Чем десны мыть, ты бы угостила. Я с зорьки ни пимши, ни емши. А тут еще мытарств сколько....
Добыла Макариха картошек, хлеба нарушила, насыпала соли горку на стол:
— Кушай...
— Эх, кабы чего-нибудь горяченького! А? — заюлил Никша.
— Нету, Никон... Утресь у Парамоновских остатки допили. Ишь, кумуха какая доспела — боятся все начальства военного... Как Пьянову пожгли, ну и наши трусят.
— Жалко, — вздохнул Никша.
Круто соля хлеб с картошкой, Никша рассказал про свои лесные встречи. И как поведал он про то, что рассказал белым о партизанах, хлопнула Макариха себя по бедрам, закачала головой, застыдила:
— Ах ты, неиздашный какой!.. Что же ты это наделал?! Теперь окружат их, бедненьких, ироды, перестреляют!.. Дурак ты, совсем дурак!..
— Да это не я... — оправдывался Никша. — Это самогон во мне действовал...
— Самого-он! — передразнила Макариха. — Ну, а потом што?..
Рассказал Никша, что было потом.
— Вот теперь ребята наказали, — кончил он, — чтоб, значит, убираться мне, схорониться мне...
— Зачем же? — дивилась Макариха: — Будут тебя партизаны наказывать за подлость твою, или как?..
— Нет... Не от партизан убираться, от белых. Ты, говорят, Никон, уходи из Никольщины, а то белые шкуру с тебя спустят.
Макариха удивленно наморщила лоб:
— Не пойму я, — недоумевала она. — Пошто же тебя белые будут трогать?.. Ну, да ежели ребята наказали, так, стало быть, понимают они, что к чему...
— Да! — вздохнул Никша.
Поев, перекрестил он торопливо рот, грудь перекрестил, попрощался с Макарихой и, вздыхая, ушел из Никольщины.
11.
А над лесом, над кустарниками, над еланью гул и треск. Насаживает из пулеметов есаул; старается пачками из цепи своей Власов. Постреливают, щупают друг друга, обнаружиться один перед другим не решаются: хитрят.
Распугали комаров, посшибали ветви у сосен, окровавили пахучей клейкой кровью деревья. Наделали делов.
У Власова в отряде заблудящая пуля сшибла бойца, просверлив голову. У есаула кого-то ранило.
Палят, изводят заряды (эх, если бы да это добро в промышленное охотничье время в ход пустить!) — а по тропам неприметным, по кочкам, через калтусы, через релки, по кустарникам тянутся торопливо люди. Идут молчаливо, продираются сквозь чащу деловито. Тянутся они то гусем, то по-двое, по-трое. Тащат на себе пулемет. Обвешались гранатами, ловко приладили через плечо винтовки.
Идут и слышат перестрелку. Ухмыляются, веселеют, приободряются.
А вожатые, коноводы, а начальство партизанское на-ходу задачу себе задают и задачу эту, не останавливаясь, решают.
Зайдя Власову в тыл, обрушиваются на его отряд внезапно, обжигают неожиданностью, наседают свирепо и безудержно.
И есаул Агафонов, учуяв, что на его противника насели сзади (молодец Власов! — радостно думает догадливый командир), двигается вперед и бьет в лоб врага, бьет без разбору, со-слепу, сгоряча, по всем правилам искусства...
12.
Никша уныло убрел обратно на Верхнюю Заимку к Акентию Васильевичу. Там он похвастался своими похождениями, но не встретил сочувствия, и самогоном, как втайне надеялся, угощен не был.
— Уноси-ка, Никша, от нас ноги по-живу, по-здорову... Станут тебя искать, и нам влетит...
— Да кто меня искать-то будет? — горестно изумился Никша.
— Это нас не касаемо! — урезонил его хозяин: — Может, белые тебя поищут, а, между прочим, может, и эти, красные, которые...
Ушел Никша с Верхней Заимки, добрался до деревни Медведевой. Там у Никши сватовьев целая улица. Переночевал Никша в Медведевой — хозяева утром ему вежливенько:
— Лучше тебе, Никша, в Моты податься. Переживешь там лихое время, а потом, даст бог, воротишься.
Вздохнул Никша, выпросил табаку у свата, подтянул штаны и опять пошел.
Этак попутешествовал Никша немало. А тем временем по заимкам, по деревням разнеслось, как белые друг друга с дуру насандаливали, как этим ловко партизаны воспользовались, и как потом карательному отряду с большим уроном пришлось отступать к линии, в город. Дошло это все и до деревни, где Никша унылое прозябание совершал. Но ко всему этому прибавилось и то, что всю катавасию, мол, завел немудрящий мужичёнка: пьяным, мол, прикинулся да и закрутил мозги белым.
Послушал Никша, охнул, обрадовался:
— Ах, лешай!.. Да ведь это про меня, ребята!.. Я этот самый, который белых омманул!.. Ей-богу, я!
Не поверили, было, мужики, но стали прикидывать, вспомнили, о чем им Никша, как пришел, рассказывал, — выходит, что и впрямь Никшино это дело!...
Оглядели они Никшу, словно и не видывали его раньше, осмотрели лицо его со слезящимися глазами, с бородишкой немудрящей, руки малосильные, грязные, мужицкие, брюхо, осевшее книзу, осмотрели-оглядели его — такого давно знакомого, надоевшего, прилипчивого, пьяницу.
— Да как же это ты так?.. Да откуда ты разумом просветлялся?!.
А Никша вскинулся, приободрился, хорохорится:
— Я, думаете, совсем пропащий?! Я, думаете, — Никша? Не-ет!.. Подымай теперь в гору: Никон Палыч!.. Да!..
Хохотали мужики. Но как-то опасливо, с оглядкой.
13.
Самый-то ядреный, настоящий смех позже был.
Перекинулись партизаны из никшиной волости в другую, за ними убрались и каратели. Тише стало по деревням. Вышло так, что и Никше домой ворочаться, хоть и с оглядкой, но можно. А Никша к этому времени фасон другой стал держать: голову выше вздернул, хмыкает, когда говорит, задается. Гордость в себе мужик держит, мужикам заслугу свою в нос тычет:
— Вы, вот, возле баб торчите, а которые настоящие хрестьяне, те белых шпарят... Я по малосильству своему хошь оружьем орудовать не способен, зато голова у меня действует, пользу я приношу!..
Пробовали мужики отшучиваться от Никши, но Никша стал напористый, едучий, от него не отвяжешься.
Когда Никша вернулся в свою Никольщину, был у него вид победительный, слезящиеся глазки горели радостью, и пялил он вперед, вместо груди, свое брюхо. Обошел Никша односельчан своих, угостился, всюду порастабарывал, везде о себе повеличался. Пред Макарихой совсем распетушился он.
— Ты знаешь, я теперь какой человек? — наседал Никша на старуху.
— Знаю, знаю! — не сдавалась Макариха: — Первейший дурень в волости и пьяница несчастный! И к тому же лодырь!