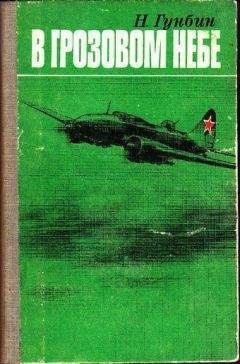Андрей Хуснутдинов - Господствующая высота
Рассуждая сейчас о перспективах Стикса схлопотать товарищескую пулю со спины, я выпячиваюсь из своей подбитой жирком сорокалетней шкуры, стараюсь говорить не от имени себя настоящего, а от имени легкого на подъем мотострелкового сержантишки, который знал о собственных подчиненных не более того, что они сами — на словах, на деле, в бреду — давали знать про себя. Теперь, с высоты прошедшего времени, я могу с легким сердцем возглашать, что возможность быть убитым своими для Стикса равнялась абсолютному нулю. Но с высоты настоящего таким же абсолютным нулем видится все, что не достигло фазы факта, события. Мы привыкли понимать прошлое как упразднение вероятности. Только это определение годится для фотопленки или для годовых колец на срезе дерева. Для человеческой памяти такое прошлое — разобранная мозаика. Или того проще — виды с сертифицированным бессмертием. То есть я хочу сказать, за эти двадцать с лишком лет я не то чтобы лучше понял Ариса Варнаса, но смог лучше разобраться в своем отношении к нему. В конечном счете, в себе самом. Я понял, что если хочу лучше вспомнить кого-либо, то должен надежней забыть себя. Себя сегодняшнего, выдумывающего себя вчерашнего. Себя, решившего, например, что гарнизонная жизнь действовала на Стикса сродни клетке на дикого зверя, сводила его с ума и заставляла грызться с сослуживцами так же машинально, как машинально дикий зверь грызет прутья своей решетки. Было ли так на самом деле? Вероятно, да. И даже скорее всего именно так оно и было. Проблема, повторюсь, тут не в возможности моей ошибки, но в принципиальной невозможности для моего легкого на подъем сержантишки думать своей головой. Поэтому не стоит судить его строго за то, что, когда через день после потасовки на верхнем выносном посту стало известно об аналогичном ЧП на нижнем, он решил: всё, с него хватит, заслонять от того света того, кто сам и с такой завидной регулярностью выписывает себе смертные приговоры, есть уже некоторым образом соучастие в помешательстве.
В первом чтении происшествие на НВП выглядит просто и дико одновременно. Во втором часу ночи кемарившие после дозы джарса урюки из третьего отделения, Бахромов и Матиевскис, были разбужены одиночными пулеметными выстрелами, гремевшими на их собственной позиции и над их собственными безмозглыми башками. Бахромов насчитал четыре выстрела, Матиевскис — пять. Стрелял — из своего ПКМ-а в сторону долины — Стикс.
Во втором чтении простота улетучивается, зато крепчает и ширится дичь. В ответ на вопрос чуть очухавшегося Бахромова, какого черта он тут делает, прямым в голову Арис отправляет узбека досматривать веселые картинки, то же самое, с точностью до жеста, до полуслова, происходит с Матиевскисом, после чего Стикс возвращается добирать свою смену — это за полкилометра, если что, на полутора ногах, в обход заставы, «колючки», вдоль минных полей — на верхний пост.
В третьем чтении, по всем канонам драматического жанра, конфликт помалу и полностью исчерпывается. Имеют место быть чудесная развязка, замирение сторон и благорастворение воздухов. Утром на склоне горы, метрах в двухстах под НВП и прямехонько по курсу Стиксовой стрельбы, Матиевскис замечает дерущихся среди каменных россыпей грифов. Понять, из-за чего сыр-бор, невозможно даже в артиллерийскую стереотрубу. Горизонт буйной трапезы падальщиков скрыт в складках местности. С пересменкой под гору отправляется усиленный патруль, а час погодя — прилетевший из штаба дивизии начальник особого отдела с оперативной группой. В целом и частном выясняется следующее: ночью, нарисовавшись на НВП, что твой черт из табакерки, в кромешной тьме — без использования ночной оптики, без применения осветительных ракет, вообще без ничего — с открытого затвора Арис Варнас расщелкал троих арабских наемников. Тех еще, не к столу будь сказано, шишиганов. Миновать все рубежи РСА,[11] «путанку»,[12] минные поля и затем расположиться на привал под самым носом у действующей заставы могли либо нематериальные сущности, именно что духи, либо фантастически натасканные диверсанты. В пользу второй версии, конечно, собирается больше зачеркнутых минусов. Тут вам и новейшее штатовское обмундирование покойников, и их бесшумные штатовские стволы с «ночниками»,[13] и, собственно, сами тела, поглоданные, но не растворившиеся в утреннем свете. Все же в пользу первой версии, кроме так и не разрешенного вопроса «как?», голосует — и даже, можно сказать, вопиет — другой, способный перебить все прочие зачетные галочки: «какого?» То есть на кой ляд надо было, во-первых, переться с таким передовым прикидом в нашу тактическую глушь, и, потом, припершись, вставать на привал вместо того, чтобы ставить заставу на ножи? Вопросы эти, к слову, моего мотострелкового сержантишку занимали постольку-поскольку. Толком не озадачили они скорей всего и особистов, которые не так удивились материализации кодированных бедуинов в «бархатной зоне» между боевыми 17-м и 19-м фортами, как обрадовались негаданной форматной добыче, а значит, возможности внеплановой орденоносной петиции в Кабул и выше, на Лубянку. Сержантишку же моего перипетии чудесного загробления бедуинов дразнили аккурат до той поры, пока он не вспомнил, как, будучи однажды под джарсом, сам в еще довольно приличных предрассветных затёмках, меж волком и собакой, подстрелил с поста, саженей с полста, шакала. На слух. Воображая самого-главного-моджахеда и мечтая о самом-краткосрочном-отпуске (которого, конечно, рядовым бойцам ограниченного контингента, что твоим про́клятым или адовым резидентам, не полагалось по умолчанию). Капитоныч тогда словно мысли подглядел сержантишкины — пошептавшись с особистом, накатал рапорт на представление Ариса к отпуску по семейным обстоятельствам. И представление сие, помнится, произвело в сержантишке неоднозначное, муторное чувствецо (как, впрочем, и большинство конфликтных завихрений вокруг Ариса). С одной стороны, Стикс являлся героем, заслужившим свой отгул из пекла больше, чем кто бы то ни было на восемнадцатой, с другой — было ясно, что решение взводного вызвано не столько желанием поощрить передовика, сколько стремлением избавиться от неиссякаемого источника гуманитарных, сиречь чреватых поножовщиной, проблем на заставе. Но как сержантишка, так и взводный зазорно, с запасом, с треском дали маху в своих посылках благодарности насчет Стикса. Дважды два не всегда равняется четырем. Я не владею статистикой отказов советских срочников от отпусков, да и не знаю, существовала ли такая вообще, но более чем уверен, что добровольный отказ Стикса — единственный в своем роде за всю историю Красной Армии. Так или иначе, не пальба впотьмах по духам, а вот эта категорическая реакция на поспевший из штаба полка приказ представилась тогда всем настоящим чудом. Ведь что такое чудо? То, чему нет места в рамках действующего, оперативного опыта быта. Поклеванным бедуинам мой военный опыт еще находил худо-бедные обоснования, отказу от отпуска, от возможности пресечь, хотя бы на время, обрыдлую и смертоносную череду окопных буден — нет. Имеется тут, конечно, и запасной вариант, пожарный выход для логики — покрутить пальцем у виска, — и все же таки, повторяю, никто на заставе не считал Ариса Варнаса психом всерьез. Даже Матиевскис, который по волшебном известии от Скибы-писаря при всем честном народе в курилке назвал Стикса тронутым и скрепил свой вердикт нежным постукиваньем щепотью по подбитому профилю.
Отношение к Арису, безусловно, изменилось тогда. К нему не стали набиваться в приятели, но сделались терпимее, глуше к его придиркам и заносам. Взводному, кстати, под шумок гэбэшной возни с бедуинами тоже удалось состряпать небольшую сказку. На запрос из штаба полка, почему рядовой Варнас до сих пор не убыл в положенный отпуск, Капитоныч возьми и брякни, что рядовой Варнас уклоняется от поощрения в пользу родной заставы, просит вместо отпуска увеличить водоснабжение восемнадцатой, ведь (шепотом) на эту тему имелся личный уговор с начальником особого отдела дивизии, да, видно, в сумятице наверху, не то в штабе армии (ага), не то где пониже, всё перепутали. Так, отныне к нам зараз карабкалась не одна водовозка, а три, и вопрос с недостроенной баней, равно как и с подштанными подселенцами, утрясся в кратчайшие сроки сам собой.
Говорить, тем не менее, что на Стикса взялись смотреть сквозь розовые очки лишь из-за его отказа ехать в Союз — одна сторона медали. В заварухе вокруг бедуинов он сам как будто спустился с небес на землю, пришел в себя. Тогда, казалось бы, логично было заключить, что затык иеремиады насчет качества жратвы, манкирования санитарными заветами и проч. напрямую соотносится с увеличением подачи воды на высоту. Однако же я стою на своем: Стикс перестал щетиниться после происшествия на нижнем посту, а не после того, как заработала баня. Червю, глодавшему его, был нужен порох, а не вода. И Капитоныч — ум, честь и совесть восемнадцатой, даром что боксер — смекнул это прежде прочих.