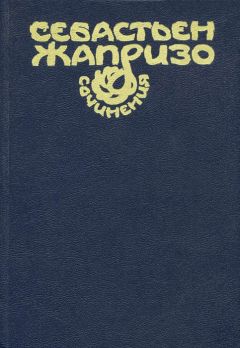Даниэль Клугер - Стоящие у врат
Эта картина вызывала тревожное чувство (вот, пожалуй, первый и единственный раз испытанное тогда в Брокенвальде ощущение, ныне кажущееся мне слабым отголоском предчувствия, обуявшего хасидского праведника): глядя в течение более-менее продолжительно времени на туман, укутывающий башню, начинаешь вдруг замечать, что он отнюдь не неподвижен. В темно-серых, местами иссиня-черных облаках наблюдалось медленное, непрерывное вращение, перемещение одних туманных слоев относительно других. По временам туман принимал причудливые формы, которые моей фантазией непроизвольно превращались в каких-то зубастых, крылатых и когтистых химер, то тянущих к нам свои лапы, то вдруг мгновенно терявших форму — с той лишь целью, чтобы принять новое, еще более чудовищное обличье.
По дороге — вернее, тропинке — пастор Шварц рассказывал нам с профессором Штерном местные предания, касавшиеся самого замка и его прежних обитателей баронов фон унд цу Айсфойер, род которых пресекся в первой половине XVIII века. Самыми известными были барон Гуго фон унд цу Айсфойер, участник третьего крестового похода, соратник Фридриха I Барбароссы. Гуго привез с Востока какие-то книги, по мнению местных жителей — колдовские — и был сожжен как еретик вскоре после возвращения из похода.
Другой знаменитостью стал его потомок, живший спустя четыреста лет Леонард фон унд цу Айсфойер. Этот господин, по словам пастора Шварца, прославился главным образом тем, что в 1564 году давал приют доктору Иоганну Фаусту. «Правда, — заметил пастор после минутной паузы, — я думаю, что это легенда. В то время знаменитый чернокнижник и маг как минимум четверть века лежал в земле. Другое дело, унес ли его дьявол в 1536 году в Вюртемберге или удушил в Праге четырьмя годами позже».
Так вот, совпадение следующее. Ныне в замке располагается комендатура Брокенвальда. А коменданта зовут Леонард. Гауптштурмфюрер СС Леонард Заукель.
Что же до барона Леонарда фон унд цу Айсфойер, то призрак его, возможно, испытывает некоторое смятение от поведения новых хозяев старинного сооружения. Не исключено, впрочем, что эсэсовец Леонард стал, согласно теории г-на Шейнерзона, воплощением двух великих грешников рода владельцев замка Айсфойер. В этом случае он, подобно мне, мучается неопределенностью сновидений, приходящих в его спальню из холодного туманного покрова…
Третьим совпадением, вновь имеющим непосредственное отношение к моей скромной особе, стала встреча в очереди у пищеблока, спустя месяц после того, как представитель Юденрата доктор Красовски сообщил мне, что отныне я не работаю в медицинском блоке. Доктор Красовски отвечал в совете гетто за эпидемиологическую обстановку. Было ли решение о перетряске медицинского персонала в связи с участившимися случаями брюшного тифа решением собственно совета или они выполняли распоряжение коменданта, но тогда внезапно уволили семь человек — врачей и медсестер. Из уволенных я оказался самым страшим по возрасту. Мои коллеги уже через день-два попали в состав бригад, работающих на сельскохозяйственных угодьях вне стен гетто. А я сразу же попал в число неработающих, соответственно получил урезанный паек и уже в первый день нового своего положения отстоял за ним несколько часов. Единственным положительным следствием этого выматывающего стояния за крохотным куском хлеба и миской мутной жидкости оказалась возможность общения с некоторыми давними знакомыми, оказавшимися в той же категории обитателей гетто, что и я.
В одно прекрасное утро моим соседом по очереди оказался Макс Ландау.
Я познакомился с этим человеком все в том же 1931 году, во время короткого посещения Берлина. Меня повели на премьеру странной пьесы какого-то неизвестного мне драматурга с птичьей фамилией, кажется, Галка. Кажется — потому что пьеса прошла всего один раз, и никогда более произведения этого автора мне не попадались.
После спектакля профессор Штерн выразил желание познакомить меня с режиссером. Я согласился — хотя бы потому что было в малопонятном с моей точки зрения спектакле нечто, меня заинтересовавшее. Даже не в самом спектакле, а в некоторых чисто постановочных ходах.
Несмотря на явный провал (по ходу премьеры большая часть зрителей покинула зал), режиссер выглядел не только не обескураженным, но напротив, вполне довольным и собой, и своей работой. Спустя какое-то время я понял, что Макс Ландау — так его звали — никогда не бывал в ином состоянии.
Тогда же меня представили и его жене, очаровательной госпоже Лизелотте Ландау, урожденной фон Сакс. Стройная молодая блондинка тогда с крупными чертами лица была полной противоположностью мужу, наделенному внешностью типичного польского или галицийского еврея, по ошибке обряженного вместо традиционной одежды и меховой шапки-штраймла в европейский смокинг и мягкую шляпу с полями. Правда, речь этого толстого короткорукого господина с густой, несмотря на молодость, проседью в курчавых волосах отличалась изысканностью, особенно заметной моему уху иностранца.
Он сразу же подхватил меня под руку (дело происходило в полупустом фойе, когда немногие зрители, досидевшие до конца, разошлись), и повел к стойке бара.
— За успех надо выпить! — заявил он.
— Вы считаете премьеру успешной? — спросил я удивленно.
— Разумеется, — г-н Ландау пригубил коньяк, поданный ему в пузатой рюмке тонкого стекла. — А разве вы сами не видите? Успех, уважаемый доктор Вайсфельд, истинный успех. Мне удалось то, чего хотелось больше всего: я до смерти напугал публику обыденными вещами. Понимаете? Будьте уверены, зрители уходили не потому, что им не понравилось происходящее на сцене, напротив. Понимаете? Им стало страшно, и с каждой минутой становилось все страшнее. Им хотелось поскорее оказаться дома, за крепкими стенами. Понимаете? Если бы нам удалось с помощью какого-нибудь волшебного фонаря увидеть, что происходит в этих домах, мы увидели бы именно такую картину — испуганных, трясущихся обывателей, проверяющих прочность дверных засовов.
В тот момент я вдруг почувствовал, что он говорит чистую правду. Одновременно я испытывал сильное раздражение от его неприятной манеры говорить быстро и пересыпать речь к месту и не к месту идиотским вопросом «Понимаете?»
— Вся эта нечисть, — продолжал г-н Ландау. — Все эти одноклеточные ублюдки, вдруг вылезшие из разных дыр и заполнившие собой бюрократические кабинеты, все эти механизмы внезапно получают власть — и над кем? Над заурядным и законопослушным коммивояжером. Понимаете? Понимаете?
— Разве герой пьесы — коммивояжер? — удивился я. — Мне казалось, он художник…
— А-а, вы заметили? — г-н Ландау прищурился. — Это и есть та самая двойственность, которая удалась драматургу. Понимаете? Впрочем, это неважно. Обратите внимание — герой даже не знает причин, по которым его вдруг привлекают к суду. Понимаете? Но главное: он очень быстро начинает чувствовать себя виновным. В чем? Неважно. Важно — перед кем… А вы не пьете, доктор. Это плохо…
Я сделал глоток — без особого удовольствия.
— Вы были на войне, господин Вайсфельд? — спросил он вдруг.
— К счастью или несчастью, я оказался молод для армии.
Он вдруг нахмурился.
— Я совсем не помню войну, — сказал он. — Понимаете? Не помню. А ведь мне было шестнадцать, когда она закончилась… А мне нужно вспомнить. Не детали — ощущения. Я хочу поставить спектакль о войне. О войне как о живом существе, понимаете? Но для этого нужны ощущения. Я должен понять ее… — Он запрокинул голову, прикрыл глаза. — Понять… — г-н Ландау замолчал. Я почувствовал себя неловко, но пауза длилась всего несколько мгновений. Режиссер взглянул на меня и сказал вдруг совсем другим тоном:
— Было очень приятно поговорить.
Неловко поклонившись, он отошел, словно испугавшись чего-то. Я оглянулся. Макс Ландау стоял рядом с г-жой Лизелоттой и слушал ее речь, покорно склонив голову. По отдельным доносившимся словам я понял, что речь идет о чрезмерном пристрастии режиссера к коньяку.
Той короткой встречей и ограничилось наше знакомство — вплоть до дня, повторяю, когда уже здесь, в Брокенвальде, стоя впервые в стариковской очереди за пищей, я услышал свое имя, произнесенное стоящим позади меня человеком. Им оказался г-н Ландау, исхудавший и осунувшийся, со щеками, покрытыми черной щетиной, но с тем же ироничным и несколько самодовольным взглядом ввалившихся глаз.
— А-а, доктор Вайсфельд! — закричал он так, словно я находился в километре от него. — Доктор Вайсфельд! Черт возьми, не могу сказать, что рад вас видеть. Понимаете? То есть, я хочу сказать, что рад видеть вас, но видеть здесь — нет, увольте. Понимаете? Такое вот несоответствие отношения к факту встречи и месту встречи.
Я чуть отстранился от него. Вереница истощенных мужчин и женщин в обтрепанной одежде была странным фоном для этой трескучей болтовни, тем более, для потуг на остроумие. Но г-н Ландау не обратил никакого внимания на мое движение, как не обратил никакого внимания на неприязненные взгляды со всех сторон.