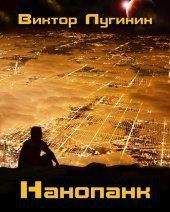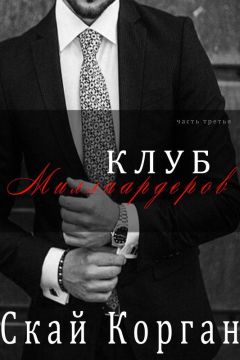Виктор Положий - Пепел на раны
Только об этом Михайлич и успел подумать, мысли его снова закрутились вокруг нелепого плена; переход из одного состояния в другое произошел мгновенно, не контролируемый сознанием, словно это произошло не с ним, и надлежало все поставить на место, восстановить реальную картину.
Они возвращались от белорусских партизан, ходили договариваться о совместных действиях на линии Брест — Ковель, а главное — о том, как расширить зону партизанского влияния на оккупированной территории, заодно узнать, как там на Большой земле; радиоприемника у щорсовцев не было до сих пор. Ходили сговариваться с Бородаем, командиром, известным во всей округе. Бородай принял их сдержанно, с достоинством, сказал, что его в первую очередь заботит Оршанское направление, немец, как известно, рвется к Волге, наши отступают, поэтому он решил уйти на север, где леса более густые. Что касается зоны действия, то его правило: где отряд — там и зона; слыхал, будто бы на этот счет имеются конкретные директивы, но лично он их не получал, пока будет исходить из собственных возможностей.
В глубине души Михайлич на большее и не надеялся, учитывая хотя бы то, что у Бородая настоящий отряд — свыше трехсот человек, отлично вооруженный, нет обоза с женщинами и детьми, мобильный, а у них все наоборот, да и людей меньше сотни.
Настроение было угнетенное. Ночью продирались сквозь заросли и болота, днем позволяли себе украдкой соснуть. Совсем уставшие и вымокшие в грязи, наконец, добрели до знакомого хутора Дикого, куда заходили не один раз, всегда встречая радушие, — распластались на чердаке у тетки Марты и вмиг уснули; часовой, Петр Шлепак, тоже уснул; а очнулись уже связанными.
Селяне, жившие на хуторе в нескольких хатах, собрались вокруг и молча наблюдали, как два полицая берут их и, словно снопы, по одному кладут в ряд на широкий воз. На них невзначай наткнулась какая-то жалкая команда: пожилой, с седой шевелюрой немчик, деятель Ратновской комендатуры, постоянно разъезжавший по селам, расследуя кражи, потравы, одним словом, наблюдавший за общественным порядком, с ним находились хромой переводчик. который, вообще ни во что не вмешиваясь, механически передавал населению содержание распоряжений немчика, да два полицая — парень и пожилой мужик.
— Михайлич? Ага, Михайлич, — сказал немчик без переводчика, не радуясь и не сокрушаясь, мол, если Михайлич сам попался в руки, он, так и быть, отвезет его куда следует.
Уезжая, немчик с помощью переводчика еще долго втолковывал хуторским, как поступить с сеном, какая его часть принадлежит немецкой власти, сказал, что поскольку жители Дикого не спрятали Михайлича, возможно, будут некоторые снисхождения. Селяне слушали молча, только тесней сгрудились в круг, а потом подвода тронулась, и у Михайлича перед глазами поплыло серое небо с клочьями облаков. Никогда не думал, что можно влипнуть так глупо.
На возу было совсем тесно. На передке пристроился пожилой полицай, он правил лошадьми; у ног Михайлича, вцепившись по-куриному в грядки, сидел переводчик, несгибавшуюся ногу он выставил далеко вперед, и она, как кол, обутый в сапог, покачивалась ка ухабах в такт колесам; за телегой, прямо по лужам, брел, насвистывая, парень, а по обочине, поросшей травой, шагал немчик, кобура с пистолетом болталась у него на животе: наверное, рассчитывал взять в соседнем селе персональную лошадь.
Бросив взгляд на облачное небо, будто определяя, высоко ли солнце, переводчик развязал крапчатый платок, в который были завернуты хлеб с маргарином, и принялся жевать: он уставился вперед и то и дело вытирал губы большим пальцем…
Возница искоса посмотрел на переводчика, что-то пробормотал и ругнулся, а затем вытянул обрывок газеты, но отрывать на цигарку не спешил: еще подумают, закуривает, мол, с досады, тоже кушать захотелось; расправив одной рукой на колене газету, бодро произнес:
— А ну, поглядим, что пишут о своей жизни бандеровцы. «Наша справа»… Послушайте: «Вчера в Луцке в помещении бывшей „Просвети“ для руководящих представителей ОУН состоялся показ эпохальной фильмы „Адольф Гитлер“». Кино крутят, босяки. Культурно отдыхают, называется. Закурим или как? А, хлопцы? — весело обратился к пленникам.
Михайлич даже почувствовал, как Петр Шлепак, заядлый курильщик. судорожно сглотнул слюну, но не откликнулся. «А я не курю», — приказал себе Михайлич.
— Говорю же, кому, хлопцы, скрутить цигарку? — продолжал полицай. — Я ведь тоже мужик. Или немца боитесь? Ничего не скажет, немец у меня добряк. Даже если кто и не пробовал, закуривайте, на том свете другого огонька дадут. В пекле! — засмеялся своей шутке. Она, видать, ему сильно понравилась, потому что повторил еще раз: — В пекле. О, там рогатые дадут прикурить. Их не сагитируешь. Да-ду-ут! Не хотите — воля ваша, — без огорчения сказал полицай и закурил. — Думал угостить, а вы брезгаете. Или все же немца боитесь? Я же говорю, немец хороший. Порядок, конечно, любит, но даром никого не обижает. Мы вот с Миколой, — указал кнутовищем на парня, — при нем с сорок первого, с осени. Порядок пан Шнайдер любит, что и говорить. А с нашим народом иначе и нельзя. Да. Расскажу вам такое. Осенью, в прошлом году, значит, наделали в райцентре виселиц. Погрузили на подводу и едем. Ну, думаю, этого мне только не хватало — людей вешать, — я за порядком приставлен наблюдать, а не веревки вить. Приезжаем в Выжично, там старый панский сад, может, кто видел. От яблок, мать моя, ветки трещат. Закапывайте, говорит Шнайдер. Нам что, закапывать — не вешать. Раз — и виселица стоит, на ветру петля болтается. А Шнайдер людей предупреждает — так, мол, и так: кто в сад заберется — тому петля. Добрый человек! Сад стоял, и хоть бы тебе гнилое яблоко кто поднял. Во всех селах поставили виселицы, и не надо никаких сторожей. Порядок! И все в целости. Будь совиты, добро тут бы растянули. Так что пан Шнайдер любит, очень любит порядок, мы потому и служим, что здесь порядок. В Вильце, помню, был такой случай. Заезжаем однажды, а какая-то бабка возьми и пожалуйся: тот-то и тот-то стащил у меня курицу, остальных тоже грозится извести. Приведите его, приказывает Шнайдер. Мы с Миколой туда-сюда — и готово, привели. А тот воришка, дурак, улыбается, зубы скалит Шнайдеру: пан, пан. А Шнайдер нам с Миколой лопаты: копайте яму. Нам что… А тому уже не до смеха, и бабка, видим, заныла: я же не так хотела, только бы припугнули его. Но у немцев порядок, и ворюг они ненавидят. Шнайдер сам его и укокошил, целился долго-долго, должно быть, впервые, интересно было. Закопали — и все дела. В назидание. Порядок. Микола погодя и спрашивает: стоило, мол, за одну курицу человека на тот свет отправлять? Да и курица-то украдена не у немцев, а у сельской старухи. Э, отвечает, если старуха обратилась к немецкой власти, значит, признала ее, и потому немецкая власть защитила ее интересы. Порядок! Знают, что к чему.
Полицай умолк, но его, похоже, что-то продолжало волновать, вскоре опять заговорил:
— Так ты, знать, Михайлич? Дело твое, брат, швах, намыкались с тобой немцы, считай, пропал. И зачем только было переть против такой силы? Да и порядок у них не чета нам…
Так и сказал: «нам», словно отделял себя от немцев, от тех, кому служил.
— Я вожу своего немчика по району, платят исправно, и люди слушаются. А тебе, Михайлич, не повезло, очень не повезло. Мы и не собирались на хутор заезжать, но ведь пан Шнайдер ничего не упустит, хозяйский глаз имеет. Приехали, значит, а тут откуда ни возьмись один старикашка: так, мол, и так, прошу управы, неизвестные забрели на хутор. Шнайдер, правда, побледнел, машет, поехали дальше. А дед продолжает: спят они у Марты, часовой тоже уснул. Я ему: и на холеру, дед, тебе неизвестные, сотню марок, думаешь, выпишут? А на такую холеру, говорит дед, что зол я на них, столько всяких объявилось… Слышишь, Михайлич? Рассказывает, значит: зашли на хутор какие-то, то ли националисты, то ли партизаны, или еще кто, ну, взяли поросенка, народ и промолчал — все берут, всем надо, война идет, голодного человека не зли, недолго и пулю схлопотать. А потом старший и приказывает: всех свиней на хуторе пострелять, чтобы врагу не достались. А какого врага имел в виду?.. Сказано — сделано. Не успели свиньи и кувикнуть. С тех пор хуторян и взяло за душу. Нам и связываться не хотелось, но и отступать некуда. Шнайдер вытянул парабеллум: ком, ком. Ну и пошли, если спят. А вы действительно спите, устали, видать. Оружие забрали и связали потихоньку. Самого Михайлича. Хорошо, что Шнайдеру не стукнуло пристрелить вас сонными, уже наводил парабеллум. Ну, да ничего!.. Немного подышите, раз такое дело…
Полицай умолк, жадно докуривая цигарку.
— Дядь Фанасий, а дядь Фанасий? — крикнул сзади парень.
— Чего тебе? — лениво сказал полицай.
— Так это, выходит, и нам толика достанется за этих? — кивнул на пленных.
— Да уж достанется.
— Может, не поскупятся, они сейчас радуются: не сегодня-завтра красняков в Волге искупают. Может, больше, чем по сто марок, за одного выдадут, а?