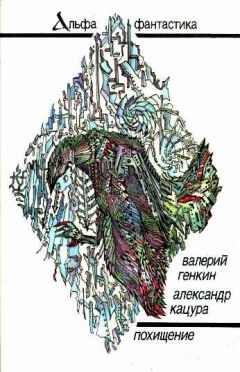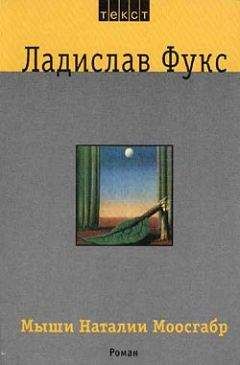Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
— Ла-дё!
Из дверцы сарая, что замыкает удлиненный четырехугольник двора, выглянул худощавый морщинистый человек с закатанными рукавами, с топором в руках, согнутый то ли жизнью, то ли возрастом. Он подошел, протягивая издалека руку:
— Ладё!
Убежавший за угол мальчуган привел за руку отца. Тот тоже долго обнимал, по-дружески поддавал под ребра, придирчиво рассматривал моего спутника:
— Ладё!
Дальше шел оживленный разговор. Отрывистый. Перескакивающий с имени на имя. Такой, как бывает между самыми близкими друзьями детства. Где сейчас один (помнишь, вместе на парте сидели)? А другой начальником стал (помнишь, работали вместе). А ты где? — На мебельной! А ты? — На картографическом. А сестра? А брат? А правда ли, что сюда вернулся за своей девушкой (тоже подружкой детства) тот самый русский парень, которого здесь прятали после побега из плена? Коля его звали? Потом он с ребятами этого двора ушел в партизаны. А что пишет теперь его жена из Харькова? А как сам Ладислав? Сочиняет по-прежнему? Книги его… да, книги его здесь читают. И фельетоны. И пьесу видели. Старик ласково кладет руку на плечо гостя. Нежно, очень нежно смотрит на него. Покачивая головой, улыбается:
— Н-да… улица Маркса…
Книга Мнячко именно так и называется: «Улица Маркса». Он очень любит ее и считает самым главным своим произведением. В ней рассказано об этих семьях, об этих людях.
О людях с улицы Маркса. Здесь прошла юность писателя. Здесь родился он в 1922 году. Здесь — учился. Здесь начал работать. Отсюда ушел в партизаны. И то что ему впоследствии доверили редактировать центральный орган Коммунистической партии Словакии «Правду» (1949–1955 гг.), и то, что ему было поручено редактировать словацкий еженедельник «Культурни живот» (1955–1956 гг.), и то, что его уже многие годы заставляет ездить и писать об успехах трудового человека в Советском Союзе, в Китае, во Вьетнаме, о фашистах, которые еще живы и еще не сложили оружие, — все это тоже идет отсюда, с рабочей улицы имени Карла Маркса.
Вся улица переживала радости и невзгоды любви, семейные передряги, перипетии печальной судьбы музыканта-цыгана, что сумел передать ей свою влюбленность в мир мелодий. Она подкармливала тех, у кого не хватало на хлеб, волновалась за исход забастовки, демонстрации. Отсюда уходили когда-то на первую мировую войну отцы, чтоб кровью своей удержать престол австрийского императора Франца-Иосифа. Отсюда же поумневшие сыновья уходили на восстание против фашизма, чтоб раз и навсегда отвоевать свободу и власть себе и своим детям.
Сюда то и дело тянет сына этой улицы — Ладислава Мнячко.
— А как твоя жена, Ладё? Как твоя мать? Почему она с тобой не приехала? Она еще этого не видела? — Марженка, молодая женщина, что вела нас к себе в квартиру, обвела взглядом цветники посреди двора, выкрашенные в светлый солнечный цвет дома, густую зелень вокруг них. И повторила свой вопрос:
— Мама еще всего этого не видела?
Больше о том, как изменилась жизнь за эти годы сказано не было. И, может быть, слова приобретали здесь особую ценность потому, что их вроде стеснялись произносить. Каждому и так ясно было, что дело не только в новых цветниках, не только в обновлении домов, не только в том, что квартира друзей детства Ладислава — Марженки и ее мужа — сама по себе говорила о достатке.
Трудно передать весь тот стремительный ток ассоциации, воспоминаний, размышлений об итогах жизни, которые, минуя станции слов, при помощи едва заметного веселого, печального или насмешливого всплеска во взгляде, едва видимого движения губ, сжатия морщинок у глаз, мгновенно передаются от человека к человеку, если они — эти люди — уже издавна настроены на одну волну.
— Жалко, что твоя маминка не приехала! Привези ее! — повторяла не раз Марженка, когда мы уже пили крепкий кофе у нее в комнате.
Почему ей так хотелось снова увидеть здесь, на улице Карла Маркса, мать Ладислава Мнячко, я поняла уже позднее, в Братиславе.
Мы сидели все за низким обеденным столом в комнате, где единственным и, на мой вкус, самым лучшим украшением из украшений были стеллажи с книгами. Со всех сторон на нас смотрели знакомые имена. Тонкий и, видно, очень наблюдательный человек, жена Ладислава — художница Гедвига спрашивала о впечатлениях от путешествия, показывала альбомы. Мнячко рисовал на карте маршрут поездки. В эту минуту в комнату вошла статная, с ослепительным, чистым блеском голубых глаз, с нежным, почти девичьим румянцем во всю щеку, пожилая, но очень красивая женщина. Даже натруженные руки ее, что принялись тут же полнее и еще полнее накладывать в тарелки любимое блюдо сына — галушки с сыром, — выдавали ее доброту. Она угощала щедро и точно боялась, что из-за хорошего отношения к хозяевам гостья может заставить себя через силу есть то, что для нее непривычно, и вместе с тем радовалась, что гостье по вкусу пришлось национальное блюдо, и радость эту тоже можно было опознать лишь во взгляде, в движениях, но не в словах.
Так много говорят обычно глаза только очень молчаливого человека большой, нелегкой, честной жизни. Совсем нетрудно было представить себе, как заботливо штопала она чулки, свитер, гладила рубашки, все, что может понадобиться, собрала, уложила, обняла сына, даже улыбнулась, чтоб он не беспокоился напоследок, чтоб не заметил, как ей горестно, чтоб ушел в партизанский лес с легкой душой, чтобы всегда и везде смотрел на жизнь трезвым, любовно-придирчивым и вместе с тем романтическим взглядом коммуниста.
Хотелось бы еще рассказать о том, что неистового репортера Ладислава Мнячко можно и по сей день встретит всюду, где намечается фронт борьбы с фашизмом, фронт борьбы за новую, социалистическую жизнь: на стройках страны, на процессе Пауэрса в Москве, на процессе Эйхмана в Израиле…
Хотелось бы еще рассказать о страстных статьях, репортажах Ладислава Мнячко, которые с первых дней освобождения печатались и печатаются в «Руде право», в словацкой «Правде», в еженедельнике «Культурни живот», в журналах, отдельными изданиями.
Но лучше всего о настоящем писателе, о его талант говорят его произведения. И недаром роман «Смерть зовется Энгельхен» переведен уже на многие языки мира. Его герои станут особенно близки нам, советским читателям.
Ида Радволина
Ночь победы
Мне нигде не больно. Удивительно, правда? Я трогаю живот, ноги — это мои ноги? Да ноги ли это вообще, будут ли они когда-нибудь передвигаться? Тело мягкое, податливое, гладкое, точно шелковая подушка. Не живой предмет, а вещь. Если погладишь собаку или кошку, живое тело отзовется, почувствуешь трепет, жизнь коснулась жизни. Стоит дотронуться до носа, прикоснуться к уху — чуткие нервы отзываются на прикосновение тела к телу. А вот мои ноги — точно неживые, ничего не чувствующие протезы. Говорят, что и деревянная нога иногда болит. Я ничего не чувствую, нигде не болит, но от пояса я неживой, неподвижный. Ноги — мои, их никто не отрезал, это и я и не я, я живу и не живу. Ногами не думают, мысли зарождаются в голове, а голова у меня в порядке, она живая, полная мыслей; хотел бы я, чтобы все изменилось — чтобы ноги ходили, а мыслей не было, чтобы не понимать, не вспоминать, не чувствовать.
Я лежу на животе и не могу шевельнуться, даже повернуться я не могу; я лежу на животе шестой день, и казалось бы, что если ноги не действуют, так есть сила в руках, ими можно пользоваться, как рычагом, положить, скажем, ногу на ногу, приподняться, опираясь на руки, подвинуться, перевернуться на спину. Несколько раз я безрезультатно пытался сделать это. Я повторял эти попытки хотя бы для того, чтобы рассердить врача, который приказал мне лежать на животе. Но напрасно старался я повернуться на спину. Ничего не выходило. Мышцы подвели меня, механизм не действовал. Я неподвижен, я слабое новорожденного. Новорожденный и тот ворочается в колыбели, выпрастывает ножки из-под одеяльца… а я? Меня кормят, умывают, бреют, делают за меня то, что я должен делать сам.
Я лежу на животе, подперев голову, уставившись на отвратительно серый лист бумаги, закрывающий большое больничное окно.
— Сестра Элишка, да уберите вы эту бумагу…
Сестра Элишка сидит где-то поодаль, мне не видно ее, я даже не знаю хорошенько, какая она, но она сидит тут, она сидит подле меня часами; мне ее не видно, но я знаю, что сейчас она отрицательно качает головой.
Разве можно снять затемнение, думает она, вот еще новости! Правда, по радио сегодня говорили, что война кончилась, что в южной Чехии последние остатки немецкой армии сдались русским, но разве возможно, чтобы столько лет длящаяся война окончилась так сразу? Сообщение по радио — и всему конец? Почти шесть лет день за днем, каждый вечер люди Европы затемняли окна, они уже автоматически опускали шторы в сумерки и поднимали их по утрам. Это стало частью их жизни. Как же так, сразу? А всю ли правду говорят по радио? Кто теперь верит этому радио? Кто теперь верит чему-нибудь вообще? Может быть, есть где-нибудь какой-нибудь немецкий летчик, который не слышал еще о капитуляции последней немецкой армии? Может быть, о ней не слышала какая-нибудь эскадрилья американских бомбардировщиков?