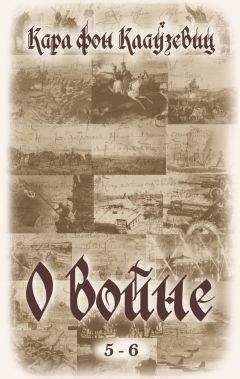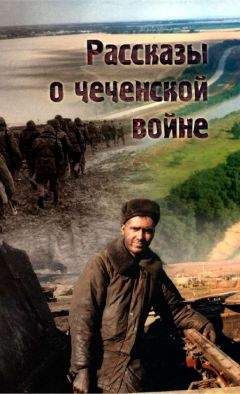Алексей Воронков - Брат по крови
За рядами последних палаток была луговина, и на вытолоченной траве уже с раннего утра паслись коровы и овцы. Чабан, которого звали Хасаном, на рассвете пригонял сюда из аула животных, а потом весь день носился на чалой лошадке вокруг своего гурта и гортанным голосом что-то дико кричал, при этом грозно хлопая длинной плетью. Наверное, матерится по-своему, решил я, вспомнив наших русских пастухов, этих великих матюгальщиков. У тех что ни слово, то мат. Птицы на лету дохнут от их трехэтажных проклятий. Тем не менее и у нас, и у горцев пастухов уважают, хотя кто-то из бывалых вояк мне говорил, что потихоньку для чеченцев слово «чабан» становится ругательным. Чабан — значит дурак, никчемный человек. Умный чеченец раба держит — вот тот и пасет скотину.
— Шпион, ей-богу, шпион, — говорил о Хасане Проклов. — Чего он здесь крутится? Ведь не иначе что-то вынюхивает, а потом своим в горы передает.
К каждому чеченцу в полку относятся с подозрением. И Хасана все подозревают и никак не могут понять, отчего это начальство не прикажет его повязать, ну, на крайний случай, хотя бы запретить ему появляться вблизи лагеря.
— Однако надо последить за ним, — это опять Проклов про чеченца. — Вы только посмотрите на него — не человек, а абрек какой-то. Головы не видно — одна шапка баранья. А за поясом тесак. Нет, ей-богу, шпион. На что угодно могу спорить.
III
Проклову сорок лет. Это могучий увалень с крепкой башкой и бычьими глазами. В нем больше центнера веса. Но ходит и даже бегает без одышки. «Это не оттого, что я много жру, это наследственное, — говорит он товарищам. — У меня мать шестьдесят второго размера, и отец ей под стать».
Ко всем чеченцам, как и многие в полку, он относится с большим подозрением. Он часто, например, вспоминает случай, когда в наш полк прибежали жители аула — помогите, мол, мост ночью мятежники заминировали. Когда саперы пришли к мосту, боевики расстреляли их из засады. Жителей аула, просивших разминировать мост, задержали, началось следствие. А они: ничего, мол, не знаем. Боевики у моста оказались случайно… Пришлось отпустить.
Но это лишь один случай, а ведь было и много других. Окунувшись в круговерть событий, размышляя над чем-то, анализируя, я все больше приходил к мысли, что жестокость и коварство, короче, все самое подлое на свете было присуще на этой войне обеим сторонам.
Я видел отрезанные головы русских солдат и растерзанные тела мирных станичников, которых чеченцы убили только за то, что они русские. Но я видел и то, как солдаты в порыве ярости избивают безоружных пленных боевиков. А бывали вещи и пострашнее. Однажды, когда я находился в командировке в Грозном, я был невольным свидетелем страшной казни. Поймав снайпершу-литовку, убившую не один десяток наших солдат, морпехи — так в армии называют морских пехотинцев — четвертовали ее, используя для этого тягу двух боевых машин пехоты… Страшное зрелище! По-хорошему, надо было бы запретить бойцам устраивать самосуд, но ни у кого из офицеров даже мысли не возникало это сделать. Гнев и звериная злоба затмили людям разум. Созналась, мол, курва, — а о чем тогда говорить?
Конечно, я по-человечески понимал ребят и даже пытался оправдать их действия. Ведь «капроновый чулок» — так мы называли женщин-снайперов — убивала их товарищей. Но мне было страшно оттого, что на моих глазах здоровые мужики буквально растерзали совершенно беспомощного в тот момент человека, притом женщину.
Эпизодов, подобных этим, было много на войне, но они быстро забывались — мы потихоньку привыкали к человеческим трагедиям. Когда каждый день происходит что-то ужасное, когда каждый день кого-то зверски убивают или калечат, невольно превращаешься в обыкновенного статиста, у которого из-за кровавой оскомины притупились все чувства.
О том, что творится на войне, мы не любили говорить. Война — это петля, о которой чем больше говоришь, тем сильнее она затягивается на твоей шее. И только когда мы после трудного дня садились за накрытый в нашей палатке каким-нибудь солдатиком из хозвзвода столик, когда мы выпивали по кружке водки, мы позволяли себе скупо говорить о войне.
— Эту войну заказали и теперь финансируют чеченские подпольные олигархи, — однажды после выпитого заявил начальник разведки Есаулов.
Он частый гость в нашем полевом жилище. Его палатка рядом, но у себя он не любит бывать — вместе с ним живет заместитель по воспитательной работе полка Сударев, а тот водку на дух не переносит. Вот Есаулов и торчит у соседей. Кстати, в отличие от нас, он пьет по-особому. Я, говорит, не еврей, но пью по-еврейски. Мне все равно, рюмку вы мне нальете или стакан — и от того, и от другого я буду пьян в сиську. Поэтому наливайте мне сразу кружку — хоть не так будет обидно, когда утром буду умирать с похмелья.
В тот день, кроме него, гостей в нашей палатке не было — только свои: Проклов, начфин Макаров, зам. по тылу Червоненко и я. Позже подошли полуглухой начальник артиллерии полка Прохоров и замкомполка Башкиров. Но они пришли к шапочному разбору, когда водка была уже выпита и на столе стояли пустые стаканы, а в двух неглубоких тарелках маячило полтора соленых огурца да два ломтика черствого хлеба. А ведь Башкиров был нечастым гостем в нашей палатке, а кроме того, он был нашим начальником. Что делать? Нельзя же было отпустить человека несолоно хлебавши. А вдруг затаит на нас обиду?
Когда вошел Башкиров, все встали.
— Сидите, братцы, сидите, — махнул он рукой и невольно зыркнул на стол. Там было бедно, и нам показалось, что Башкиров вздохнул. Подполковник не такой пройдоха, как мы, и, скорее всего, не знает, где люди берут на войне водку. А ведь иногда и мертвому хочется выпить. Наверное, и Башкирову взгрустнулось.
Проклов многозначительно посмотрел в мою сторону. Я отвернул физиономию — хватит, мол, на мне выезжать, нужно и честь знать. А он подкрадывается к моему уху и шепчет: «Майор, нужна водка… Слышишь? Нет водки — тащи из медпункта спирт». А я ему: «И не подумаю!» А он: «Эх, майор, майор… Разве можно товарищей в беде оставлять? А вот Савельев бы не стал жопиться…» Это он моего заместителя вспомнил. Этот сукин сын целый год спаивал казенным спиртом своих закадычных дружков. Я порывисто вздохнул и вышел из палатки. На улице было сыро и сумрачно. Где-то со стороны аула звучал протяжный голос муэдзина, призывавшего правоверных на вечернюю молитву. «…Аллах акбар!..» — доносилось в густой мгле, и в моем воображении предстал старик в чалме, который стоял на высоком минарете и, подняв к небу руки, возносил хвалу своему Аллаху.
В медпункт я, конечно же, не пошел — отправился к тому пройдохе-старшине, у которого я теперь был постоянным клиентом и покупал водку. Его фамилия была Лебзяк. Я как-то думал над тем, откуда произошла эта паскудная фамилия, и никак не мог вникнуть в корни. Только душа моя чувствовала, что корни эти гнилые и что предки старшины были такими же гнилыми, как и он сам. Быть может, думал я, он вовсе не такой уж плохой парень, а невзлюбил я его просто за то, что, покупая у этого мерзавца спиртное, я невольно становился соучастником его авантюры. Ведь что ни говори, а старшина наживался на нашей общей беде, а я старательно помогал ему это делать.
Слава богу, старшина был на месте. Он встретил меня дружелюбно, пропустил в палатку, которая служила каптеркой роты материального обеспечения, и задал лишь один-единственный вопрос: «Сколько?» «Две, — буркнул я себе под нос и тут же поправился: — Извиняюсь, три!» «Правильно, товарищ майор, с двумя гранатами на амбразуру не бросаются», — подмигнув мне, весело произнес он и полез под койку. В свете горевшей свечи я видел, как он ловко выуживает из ящика поллитровки, напряженно и усердно двигая своими округлыми и упитанными ляжками.
Он передал мне водку. Расплатившись с Лебзяком, я рассовал бутылки по карманам и поплелся сквозь строй палаток к своей опочивальне — там меня с нетерпением поджидали мои собутыльники. Над лагерем повисла тревожная тишина. Полк уже отужинал и готовился к отбою. В палатках негромко переговаривались солдаты; где-то негромко звучала гитара, кто-то пробовал петь. Между рядами палаток бродили вооруженные автоматами часовые, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к шорохам или напряженно вглядываясь в темные силуэты гор, откуда в любой момент могли высыпать боевики. «Зеленку», а так мы здесь называли лесные массивы, мы боялись пуще всего на свете. Именно оттуда все ждали смерть. Врага не видно, а ты перед ним как на ладони.
IV
— Ну вот и майор! — радостно воскликнул Проклов, увидав в моих руках водку. — Товарищ подполковник, — это он Башкирову, — я думаю, Жигареву пора орден Сутулова давать. Ведь какой герой! Пошли его хоть днем, хоть ночью — обязательно найдет ее, родимую.
Проклов, конечно же, имел в виду водку. Башкиров усмехнулся.