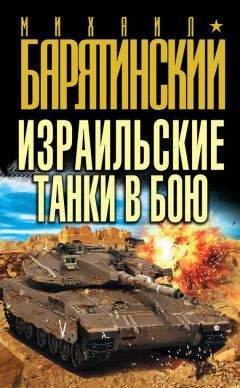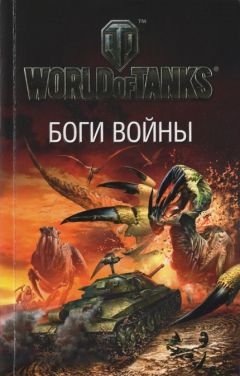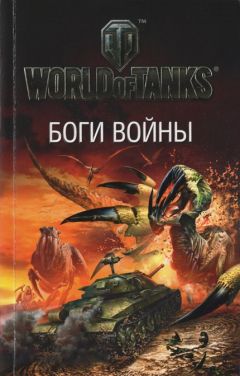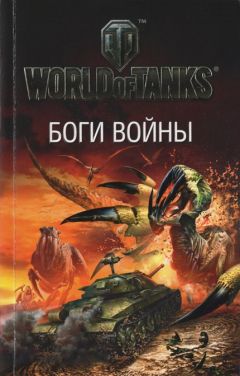Моше Даян - Арабо-израильские войны 1956,1967: Дневник Синайской компании. Танки Таммуза
О Сточасовой войне в книге «Дневник Синайской кампании» рассказывает сам разработчик операции «Кадеш», в то время начальник генштаба ЦАХАЛа — рав-алуф Моше Даян[4].
Моше Даян родился 20 мая 1915 г. в Палестине, в одном из первых кибуцев. На путь военного вступил в 1937-м, став бойцом в одном из «специальных ночных эскадронов», организованных британским офицером О.Ч. Уингейтом. В 1939–1941 гг., когда в связи со сложившейся политической обстановкой Британия круто поменяла приоритеты в ближневосточной политике и воспылала нежной любовью к арабам, Даян находился в тюрьме, куда определили его власти за участие в деятельности Хаганы. После освобождения Даян, командовавший отборной частью разведчиков Пальмаха, сражался на стороне англичан против вишистов Сирии. Однажды, когда он осматривал мост через реку Литани, который его часть должна была захватить и удержать, пуля французского снайпера попала в бинокль Даяна, и он лишился глаза.
Во время Войны за независимость М. Даян отличился в боях за Иерусалим, а в 1953-м стал начальником генштаба Армии Обороны Израиля и оставался на этом посту до 1958 г. В 1956-м он разработал план вторжения на Синай — операцию «Кадеш», известную впоследствии так же как Сточасовая война.
В 1959-м Моше Даян был избран в Кнессет и получил от премьера Бен-Гуриона портфель министра сельского хозяйства, но в 1964-м, после того как годом раньше отошел от дел Бен-Гурион, покинул пост.
1 июня 1967 г., в преддверии Шестидневной войны, Даян был назначен министром обороны и вместе с начгенштаба Ицхаком Рабином руководил действиями вооруженных сил Израиля. После войны Судного дня в октябре 1973 г., когда израильтянам пришлось отражать ставшее для них полной неожиданностью арабское вторжение, несмотря на одержанную Израилем убедительную победу, Моше Даян и Давид Элазар (тогдашний начгенштаба) подверглись резкой критике за то, что Цахал оказался не готов к нападению противника. В июне 1974-го Даян покинул Кабинет, чтобы четыре года спустя вновь вернуться в большую политику и сделаться министром иностранных дел.
В 1979 г. Даян подал в отставку из-за разногласий с премьером Менахемом Бегином. В 1981-м, незадолго до своей кончины, он создал новую партию, выступавшую за уход Израиля с завоеванных в 1967 г. территорий. В 1976-м, спустя десять лет после появления «Дневника Синайской кампании», вышли в свет мемуары Даяна, «История моей жизни».
Александр Колин
2001 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
В основу настоящей книги лег дневник, который я вел в 1955–1957 гг. В ней рассказывается не только о боевых действиях, сводки о которых поступали в генштаб ежедневно, но и обрисовывается политическая ситуация тех лет.
Конечно, вниманию читателя предлагается не весь дневник, также не всегда соблюден стенографический стиль оригинала. Кое-что было выброшено, что-то сокращено, что-то, напротив, пересказано более подробно. Я внес дополнительную информацию, полученную мной из письменных донесений и из разговоров с командирами подразделений.
Что касается политических аспектов, то тут я следовал примеру бывшего в те годы премьер-министром и министром обороны г-на Бен-Гуриона, который считал, что еще не время публиковать полный отчет о событиях, предшествовавших Синайской кампании. Так или иначе, ответственность за все написанное тут — включая сами факты и мой взгляд на них — лежит на мне и только на мне.
Я должен подчеркнуть, что книга эта отражает мое личное отношение к обстоятельствам тех лет и не должна рассматриваться как официальная хроника Синайской кампании. В книге освещаются далеко не все события, происходившее как на фронтах, так и в тылу. Так, например, в ней не рассказывается о действиях Региональных и прочих командований, как не говорится о том, что и как делал генштаб в ходе планирования и проведения операции.
Если бы я решил поблагодарить всех, кто помогал мне прямо или косвенно при подготовке этой книги, список оказался бы очень длинным. И все же я хочу выразить отдельную благодарность подполковнику (теперь полковнику) Барону (Мореле), в 1956-м возглавлявшему управление начальника генштаба, и капитану Неоре Маталон (в настоящее время г-жа Неора Барноах), служившей тогда секретарем начштаба. Спасибо им за неутомимость при сборе материалов, без которых появление данной книги стало бы невозможным. Спасибо также и подполковнику Аврааму Аялону, главе Исторического департамента Армии Обороны Израиля, и лейтенанту Михаль Ботримович, помогавшей мне в тот период, когда я писал книгу. Остальным военнослужащим Армии Обороны Израиля, перед которыми я в долгу, передаю самую огромную благодарность через нынешнего начальника генштаба, генерал-майора Ицхака Рабина.
Моше Даян
ЦАХАЛ, ИЗРАИЛЬ, СЕНТЯБРЬ 1965 г.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРЕДЫСТОРИЯ
1
Причиной начала Синайской кампании стало обострение арабо-израильского противостояния, а также стремление Британии и Франции силовым путем поставить под свой контроль Суэцкий канал.
Если бы не эти две крупнейшие европейские державы, вообще маловероятно, что Израиль начал бы военные действия на Синайском полуострове, а даже если бы начал, вне сомнения, кампания носила бы иной характер как в плане военном, так и политическом.
В свою очередь, если бы руководства арабских государств с правителем Египта во главе не проводили враждебного курса в отношении Израиля, последний бы отказался от применения силы даже в том случае, если бы конфликт между Британией и Францией, с одной стороны, и Египтом, с другой, вылился бы в открытое военное столкновение.
В предлагаемом вниманию читателя «Дневнике» рассматривается взаимосвязь между операцией «Мушкетер» (англо-французской акции по исправлению ситуации вокруг Суэцкого канала) и кампанией самого Израиля на Синайском полуострове. Однако надо прежде сказать несколько слов о том, что привело правительство Израиля к решению вступить в войну.
Вскоре после разгрома евреями арабов в Войне за независимость и заключения соглашений о перемирии с Израилем в 1949 г., арабские правительства вновь вернулись к своему прежнему лозунгу, призывавшему сбросить израильтян в море и стереть еврейское государство с карты мира. Арабы не пожелали превратить Соглашение о перемирии в мирный договор, но сразу же после вступления в действие режима прекращения огня принялись нарушать границу и нападать на мирных граждан Израиля.
Поначалу евреи восприняли подобное поведение как следствие своеобразного «военного похмелья» и лишь призывали соседей к выполнению буквы Соглашения, твердо следуя политике сдержанности в отношении агрессивных выпадов арабов.
Однако во второй половине 1954 г. действия террористов активизировались. Вскоре стало очевидным, что все происходящее не есть выходки неспособных смириться с поражением экстремистов-одиночек, но акции, организованные и предпринимаемые с одобрения правительств арабских государств, а в особенности руководства Египта. Ситуация неуклонно обострялась и к 1955–1956 гг. достигла уровня, которого Израиль не знал со времен войны в 1948-м.
Положение стало таким, каким оно стало, по трем основным причинам. Первое, Египет готовился к полномасштабной войне, целью которой являлось уничтожение Израиля, второе, участились вылазки специально подготовленных банд арабских террористов и третье, Египет лишил израильтян возможности осуществлять судоходство через Акабский залив.
2
Когда в сентябре 1955-го Прага и Каир заключили договор о поставках вооружений из Чехословакии[5] в Египет, в Израиле утратили последние иллюзии в отношении планов противника. Вследствие данного шага Египет получил большое количество современного оружия и техники, что давало ему преимущество над израильтянами, и последние поняли: противник постарается как можно скорее использовать свое превосходство с целью осуществить задуманное — стереть с лица земли еврейское государство.
В число вооружений, полученных Египтом из Чехословакии, входило 530 единиц бронетехники (230 танков, 200 бронетранспортеров и 10 °CАУ), около 500 стволов артиллерии, почти 200 истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов, а также значительное количество военно-морских судов — эсминцев, торпедных катеров и подводных лодок.
По тогдашним ближневосточным меркам это была небывало крупная партия вооружений и техники. Принимая во внимание то количество оружия, которым до того располагал Египет, от хрупкого равновесия сил, сложившегося между арабскими государствами и Израилем, не оставалось и следа. Прежде в распоряжении Египта насчитывалось около 200 танков — столько же, сколько и у Израиля, теперь Каир (не считая его арабских союзников) располагал почти вчетверо большим бронетанковым парком. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении авиации. До сентября 1955-го Египет имел восемьдесят реактивных боевых машин, а Израиль — пятьдесят. Теперь в распоряжении Каира находилось до 200 реактивных истребителей и бомбардировщиков — четыре к одному. Не лучше обстояло дело и с тем, что касается артиллерии, боевых кораблей и катеров. Египтяне выигрывали не только в количественном, но и в качественном отношении. Миги и Илы стояли по меньшей мере на две ступеньки выше, чем «Метеоры» и «Ураганы» наших ВВС. Также и Т-34 советского производства значительно превосходили устаревшие «Шерманы» Мк3[6].