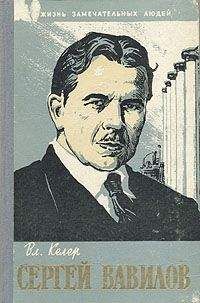Святослав Сахарнов - Камикадзе. Идущие на смерть
Запомнился день, когда над островом и проливом пронесся тайфун: по улице невозможно было идти, ветер сбивал с ног, он понес Ито по дороге, по дощатому тротуару, нес до тех пор, пока Ито, упав, не распластался, как ящерица, и не нашел сперва себе убежище в яме, а потом не спрятался за углом дома. Два барака в городе рухнули, и ветер отнес крики раненых за сопки, за жалкие огородики, которыми, как шрамами, были обезображены зеленые склоны. Но не запомнился день, когда мать и Ито наконец смирились с мыслью, что отец не вернется. Они долго ходили на мол встречать приходящие с моря кавасаки, выспрашивали о тех, кто был в тот день в море. Некоторых унесло к советскому берегу, их задержали русские пограничники, и прошли месяцы, прежде чем из далекой Москвы пришло разрешение их отпустить. Отца не оказалось и среди них.
— Надо уезжать, — плача, сказала мать, и они уехали на Сайпан, вернулись в ее родную деревню на западном берегу острова, где мать с трудом нашла работу — нанялась на червоводню.
Она приходила с работы поздно вечером, долго мыла зеленые, перепачканные тутовой листвой руки, разжигала на дворе чугунную печку и варила неизменную лепешку, которой кормила его изо дня в день. Лепешку приправляла соусом. Они садились вдвоем за низенький старый столик и, торопясь, ели, обжигая рты горячим скользким тестом.
Хозяин, у которого работала мать, уже много лет держал ферму. Ферма была маленькая — шестеро работниц. Первое время Ито часто ходил с матерью, видел, как она посыпает листьями стоящие на полках во много рядов рамы и как на них копошатся толстые белые червяки, каждый с коротким рогом на спинке. В червоводне пахло вялым листом, было тихо, но если прислушаться, то слышно было, как копошатся на кормовых этажерках черви. Когда подходило время, работницы втыкали в рамы пучки прутьев, черви переползали на них и окукливались. На каждом прутике появлялись висящие в воздухе, поддерживаемые едва видными тонкими блестящими нитями коконы. Их собирали, обдавали горячим паром, а затем женщины становились у столов и, отделив от кокона кончик нити, начинали осторожно сматывать каждую нить отдельно на деревянные точеные сердечники. Поскрипывая, жужжали станочки, женщины вертели ручки, каждая внимательно всматривалась — правильно ли ложится, не оборвалась ли нить?
Так было каждое лето, и Ито наконец перестал ходить к матери на работу.
Набегавшись по улицам, он теперь часто приходил к соседу — старику Ниими, и тот рассказывал истории, в которых, подчиняясь неустойчивой старческой памяти, соединялись вымысел и действительность.
Так, однажды старик рассказал, что в давние времена император стал страдать по ночам от приступов острой боли в руках и пояснице. Выйдя как-то на галерею дворца, он увидел в темно-синем звездном небе медленно и зловеще плывущее облако, а когда оно скрылось за горизонтом, боль в руках и пояснице прошла. Император подбежал к часам — на них было два часа пополуночи. И тогда, поняв, что причина его болезни сосредоточена в этом облаке, он велел позвать к себе лучника Гендзамии Иоримасу и приказал ему уничтожить облако. Иоримаса, спрятавшись на галерее, стал ночь за ночью подкарауливать облако и, когда наконец оно появилось, поразил его несколькими стрелами. От этого в ночном звездном небе раздался звук, похожий на стон, и на крышу дворца свалился диковинный зверь с головой обезьяны, телом тигра, хвостом лисы и лапами барсука. Животное издало звук, который все разобрали как «Нуе», и умерло, а когда император и лучник подняли головы, то увидели, что темное облако в небе исчезло.
— Император подарил Иоримасе меч и платье, а тело зверя приказал закопать, — закончил старик
— Я хотел бы научиться летать, — неожиданно сказал Ито. — Как ты думаешь, Ниими, смог бы я научиться летать?
— Людей, которые летают на самолетах, называют летчиками, но для того чтобы выучиться на летчика, надо быть богатым человеком, — покачав головой, ответил старик — Ты никогда им не станешь.
Едва Ито исполнилось пятнадцать лет, он сказал матери:
— Тебе будет легче одной, если я уеду в город. Что мне тут делать — один раз в год рубить сахарный тростник? Здесь, в деревне, я никому не нужен.
— Ты всегда долго молчишь, прежде чем сказать, а потом говоришь. Таким был и твой отец. Может быть, ты и прав. Мне будет легче без тебя, — ответила мать.
Когда Ито, держа в потной ладони две медные монеты, вышел на дорогу к остановке автобуса, там уже стояло несколько человек: крестьянин с двумя корзинами, которые он принес на палке, и теперь, сидя на корточках около них, покуривал короткую трубочку; две женщины в кимоно, с набеленными лицами, с сумочками и зонтами, они стояли, растерянно улыбаясь друг другу, отчего было понятно: поездка в город — событие для них нечастое. Тут же прогуливались двое мужчин в темных костюмах с небольшими чемоданчиками — торговые агенты, залетевшие в деревенскую глушь по делам фирмы.
Ржавые глинистые колеи убегали за горизонт, прячась в мангровых болотах, в зелени бугенвиллей, среди раздавленных низких холмов. Наконец раздался гудок, далекий затихающий вскрик, показался автобус, гремящий, похожий на музыкальный ящик, за ним тянулись желтая пыль и серый лохматый дым. Машина прошла лощину, проползла под деревьями и стала надвигаться. Ито отскочил, испуганно прижался к обочине, следом за женщинами влез в автобус. Кондуктор взял медяки, сунул ему в руку билет, буркнул: «Не стой!» Жаркая, с выставленными окнами машина была полупуста. Женщины садились, осторожно подбирая кимоно. За окном уже проплывали кусты, выстрелил ствол пальмы, закачалась гроздь зеленых плодов, замелькали соломенные крыши домов, зарябила черепица, потекли заросли сахарного тростника. Автобус катил, качаясь, вздрагивая. Вдруг в машине стало темно — проехали под мостом; не успел Ито понять, что случилось, как автобус вывалился из-под моста, и снова по сторонам потекла зеленая, полная света и парного влажного воздуха земля. Ито сидел, до боли повернув голову, жадно рассматривая, как бегут, подпрыгивая, поля, как вздрагивает высоковерхий храм с торием[4] перед ним, как дрожат тростниковые хижины. И наконец дома стали попадаться все чаще и чаще, слились в одну бегущую ленту, кондуктор нехотя выкрикнул:
— Гарапан!
Ито подхватил узелок, в котором были завернуты мыло, рубашка с полотенцем, и следом за женщинами выскочил на площадь.
Город… Чужой, совсем чужой, непонятный и тревожный: люди ручейками текут по улицам, ветер надувает пузырями полотнища: «Зонты для мужчин и женщин», «Табак южных островов», «Кимоно и шерстяные платья», «Ювелирные изделия». Они свисали со стен домов, раскачивались, подвешенные поперек улицы. В витринах за пыльными стеклами лежали грудами пестрые ткани, стояли манекены, одетые в светлые пиджаки и такие же светлые брюки, гета на деревянной подошве, рядом затейливо разбросанные плетенки дзори, грудой навалены носки таби с торчащим вбок большим пальцем. Из открытых дверей харчевен несло запахом сырой рыбы. Внутри светились красные кучки креветок, брошенных на подносы, дымился рис, в чашечках горками лежала фасоль. Что-то кричали, заказывая еду, посетители, между столиками бегали полуголые официанты и уборщицы, они несли в одну сторону полные тарелки с дымящейся едой, а обратно груды пустых, с испачканными палочками и смятыми бумажными салфетками. У Ито подвело от голода живот, он остановился около одной двери, но оттуда тотчас послышалось:
— Что стал? — и высунулась желтая рожа; волосы прихвачены лентой, из-под распахнутого халата видна потная прыщавая грудь. Из глубины харчевни кто-то крикнул: «Гони его!», прыщавый ухватил Ито за ворот, повернул и изо всех сил толкнул в спину. Вытянув руки, Ито упал на тротуар, вскочил, свернул с улицы в переулок, пошел, облизывая оцарапанные в кровь ладони. Проходя мимо маленького кафе, он увидел, что там никого нет, за прилавком пусто, на столиках в маленькой комнатке несколько неубранных чашек, в них горками что-то красное. Не думая, вбежал, запустил руку в чашку, сгреб в горсть, торопливо сунул в рот. Когда сзади раздался крик «Держи его!», метнулся в сторону, помчался, петляя, как кролик, с одной стороны переулка на другую. «Стой!» Дробно стучат деревянные гета, с громом распахиваются, разъезжаются двери и окна, сверху кто-то визжит: «Вот он!» Наконец Ито выскочил из переулка на улицу, влетел в массу стремительно шагающих людей, втиснулся между ними, заметил новый поворот и нырнул еще раз за угол. Вперед, вперед — пока не слышно криков и топота ног. Переулок неожиданно оборвался, перед Ито тянулся, выгибаясь, ручей, через него перекинуты каменные горбатые небольшие мосты, около одного из них — спуск к воде. Ито скатился вниз по ступенькам, метнулся в спасительную черную тень, прижался под мостом к прохладному камню и замер. Стоял, прислушиваясь, однако наверху никто больше не кричал, и только теперь, облизав губы, понял, что украл горсть острой сои. Схватило живот, он прилег, долго лежал, поджав к подбородку колени, и только вечером боль отступила.