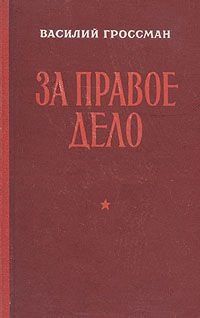Ахмад Дехкан - Путешествие на высоту 270
– Выпей чаю, – говорит она отцу, – согрейся.
Отец снял брюки, под ними его старые, потерявшие цвет кальсоны. Ройя не отрывает глаз от отца и ходит за ним как привязанная. Мустафа украдкой тоже следит за отцом. Отец сует руку в карман пальто и достает две шоколадки, одну отдает Ройе, а вторую кидает на учебник Мустафы. Мустафа подчеркнуто не берет ее, и отец говорит:
– Это тебе, возьми.
На экране диктор объявляет:
– Штаб экономического регулирования принял решение ввести купоны…
Отец и мать внимательно слушают, и отец поднимает руку, предупреждая нас всех молчать. Когда сообщение дочитывают до конца, отец шумно выдыхает, а мать ставит перед ним стакан с крепким чаем. Он берет стакан в обе ладони так, словно хочет согреться его небольшим теплом. Потом подносит стакан к губам и жалуется:
– Чертова поясница, по-прежнему болит!
Отец морщится. Зажмуривает глаза, а щеки его подтягиваются кверху. Потом он язвительно смеется, вспомнив о чем-то, и, поставив стакан с чаем, читает мне стихотворение:
– Возраст пятьдесят придет,
И вся силушка уйдет!
Он смеется, потом продолжает жаловаться:
– Я – всё: считай, вышел из строя. Чертова боль в спине всю жизнь мою забирает. То схватит, то отпустит: начинается под поясницей и идет вверх между лопаток.
– Сто раз я тебе говорила: сходи к врачу! – напоминает мать, а отец встает и сердито возражает:
– Ты сто раз говорила, а я сто раз ходил. Дают четыре таблетки из мела – и всё… Сейчас один друг сказал: поедет в Бандар[4], привезет змеиный жир, вот это, говорят, помогает.
Мать расстилает скатерть. Мустафа быстренько убирает учебники и идет к столу. По телевизору новости кончились, и опять повторяют агитацию за отправку на фронт: те же кадры в той же последовательности. Отец отрывает кусок лепешки, кладет его в рот и глухим голосом говорит:
– По-моему, опять наступление…
Он так на меня смотрит, словно ждет ответа. И я говорю:
– Да, каждый год зимой наступление.
Отец берет в руки пиалу с густым йогуртом.
– В прошлом году в это примерно время тебя ранило?
– Нет, позже: в феврале, – отвечаю я.
Мать ставит посреди стола мясную подливку с зеленью. Отец раздраженно смотрит в лицо матери, а она, отводя от него взгляд, идет и приносит рис. И первую тарелку риса ставит перед отцом, а он в сердцах говорит:
– Сотню раз тебе повторял, женщина: готовь рис, сколько хочешь, но только днем, а на ужин – что-нибудь другое!
Он раздраженно отрывает кусок лепешки, сует его в пиалу с йогуртом, потом жует. И ворчит:
– На фабрике постоянно рис, дома рис, я от всего этого риса больной уже насквозь!
Я доедаю свой ужин и ухожу в другую комнату. Решение я принял твердое. Но как мне сказать о нем матери?
* * *Вечером, когда приходит отец, я не решаюсь выйти из комнаты. В доме тишина. Я молюсь, чтобы мама заговорила о чем-нибудь и чтобы отец ничего не заподозрил. Мустафа, который в одиночку уроки делать не умеет, пришел в мою комнату. Отец всё жалуется на холода. Мать зовет нас:
– Насер, Мустафа, идите ужинать!
Мустафа поднял голову и смотрит на меня. Я кричу на него:
– Ты что, оглох, не слышал, что мать сказала?
Ворча, он поднимаеся и уходит. Следом за ним выхожу и я. Отец закатал снизу брюки и натирает себе жиром заднюю поверхность ног. Резким запахом полна вся комната.
– Привет, папа.
Продолжая массировать икры, он отвечает на мое приветствие. Мать еще не накрыла на стол, и я жалею, что так рано пришел к ужину. Я прибавляю громкость телевизора. Конь схватил за шею другого коня и крутится вместе с ним. Второй конь не перестает лягать воздух. Жеребенок неустойчиво взбрыкивает, выбрасывая задние ножки. Я сажусь, прислонившись к стене. Мать поставила на самовар небольшую кастрюльку и села рядом. Отец уходит в кухню, неся руки так, словно они очень грязные, не касаясь одной руки другой. Ройя прилипла к экрану телевизора. Лягающийся конь ударяет в бок жеребчика, и тот катится на землю. Отец выходит из кухни, и с его рук капает вода. Ройя визжит:
– Папа, папа… Большой конь детку-коня ударил!
Отец садится, опираясь о стену. Ноги ставит прямо: брюки закатаны снизу выше колен. Мать не поднимает глаз и вся согнулась, словно под тяжким грузом. Раздраженно велит Ройе:
– Сделай телевизор тише!
Ройя крутит ручку громкости. Отец смотрит на нас с подозрением. И мать исподлобья наблюдает за нами обоими. Отец рассеянно смотрит на телеэкран. Мать так взволнована, что слышно ее дыхание. Не поднимая глаз, она говорит:
– Насер хочет ехать, – и добавляет что-то неразборчивое.
– Куда ехать? – спрашивает хмуро отец.
Мать молчит. Отец теснее сдвигает ноги. Его глаза раскрыты шире обычного. Он вопросительно смотрит на меня. Я опускаю глаза, а мать поднимает голову. Отец ждет ответа. Мать негромко бормочет:
– Хочет ехать на фронт.
Ноги отца делаются вялыми. Мустафа смотрит на нас в изумлении, словно ждет скандала. А лицо отца делается очень морщинистым, словно лист бумаги скомкали. Он тяжело вздыхает и поднимается, подходит к комоду. Из-за фарфоровых чашек и тарелок достает пачку сигарет. Разрывает ее и вставляет в рот сигарету, подходит к самовару. Наклоняется, увеличивает огонь под самоваром и прикуривает. Ройя удивленно смотрит на отца, забыв о телевизоре. Отец вернулся на свое место и сел, прислонясь к стене. Ройя вскакивает и бросается в его объятия, целует его и говорит нарочито детским голосом, чтобы понравиться отцу:
– Папочка, а лазве мы не договаливались, что ты не будешь дымить паловозиком?
Отец заносит руку и сильным ударом бьет ее по щеке, так что она летит на пол; словно бы что-то грязное с себя стряхнул. Ройя упала ничком. Ее лицо морщится для плача, и цвет его постепенно становится лиловым. Никто из нас не двигается. Ройя начинает громко реветь. На четвереньках она ползет в объятия матери. Мать сильно прижимает ее к себе и нежно поглаживает по спинке. Мустафа весь сжался. Отец уставился в экран телевизора. Белки его глаз налились кровью. Он жадно жует зажатую в губах сигарету. Огонь ее горит ярко. Но в углу отцовского глаза собирается слеза. Сигарета дрожит в его губах. Вспомнились дни детской порки. Тогда отец пускал в ход ремень, и я от страха хотел вжаться в какой-нибудь угол комнаты. Отец теперь играет с дымом сигареты. Когда я вернулся с фронта, он бросил курить. Говорил так: «Этот чертов паровоз своим дымом все легкие мне испортил. Если бы не тревога о тебе, я бы раньше бросил».
Я встаю с места. Терпеть эту обстановку больше нет сил. Ухожу в другую комнату и там собираю свои учебники и кидаю их в коробку. Замечаю учебник физики. Нагибаюсь за ним и ложусь, открыв его. То ли моль, то ли ночная бабочка пролетает мимо моего лица и поднимается к лампе под потолком. Я закрываю глаза. И на меня наплывают воспоминания о фронте и о ребятах из первого взвода. Порой эти картины тускнеют, и тогда тайное возбуждение охватывает меня. Вот я заглядываю во взводную палатку, и Мехди, командир первого взвода, обнимает меня и прижимает к груди. Мягкая поросль на его щеках гладит мое лицо. Со своим обычным спокойствием он сжимает мои плечи и говорит со мной. Постепенно лицо его тускнеет. Я открываю глаза. Во рту сухо и горько. Обезумевший мотылек неверными кругами летает вокруг лампы, потом летит вниз. Я переворачиваюсь на живот. Громко включен телевизор; гремит боевой марш, и затем начинается агитация за вступление в армию и отправку на фронт. Это – единственное, что слышно сейчас у нас в доме. Я закрываю глаза. Агитационный громкоговоритель, находящийся в конце насыпи, передает военный марш. Я тащу Хусейна к насыпи. Взглянул на него и испугался. Лицо его стало страшным. Свежая кровь течет, и смывает покрывшую лицо пыль, и стекает внутрь его воротника. Его веки задрожали и замерли. Я оставил его на том месте и бегом догнал нашу колонну. И все, кто входил внутрь ограниченного насыпью пространства, говорили о трупе Хусейна, лежащем на пути, прямо в том месте, где насыпь прерывалась. Иракцы захватили нас врасплох, и мы отступили. И вновь я увидел Хусейна: он лежал в той же позе. Я прошел мимо, а когда вновь оказался там же, говорили: Хусейна увезли в реанимацию. Кто-то проходил мимо и заметил, что веки его дрожат. И лицо Хусейна, такого, какой он лежал возле насыпи, оживает во мне и всё увеличивается. Он становится таким большим, что мне его теперь и не охватить взглядом. Я раскрываю глаза. Настырный мотылек пролетает близко от моего лица, в сторону книжной полки.
– Насер!.. Насер, иди за стол!
Это мать меня зовет. В ее голосе слышны рыдания. Но я не иду, подожду, пока она накроет. Не хочу сидеть и ждать за столом. Хоть бы и вообще не ходить туда… Я знаю, что сегодня никому из нас ужин не будет в радость. Еда покажется отравленной.
– Насер!.. Иди – остывает!
Мать хочет, чтобы в доме наступило хотя бы условное перемирие. Пусть оно и сведется лишь к тому, что все мы будем сидеть за столом и ужинать бок о бок.