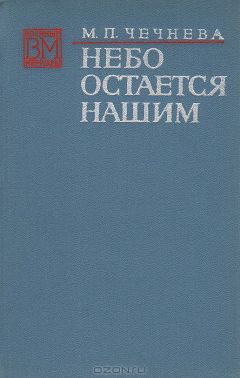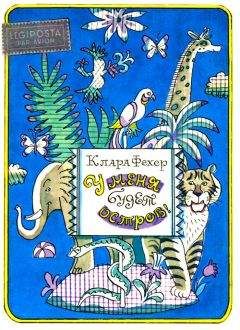Марина Чечнева - Повесть о Жене Рудневой
Дневник — вот он, незаменимый собеседник отрочества и юности. Ему ты можешь поверить все твои тайны, все сомнения, он их не выдаст, а если и упрекнет тебя в незрелости, то лишь по прошествии многих лет, и притом с глазу на глаз.
И начала Женя вести дневник. И хотя не было поначалу в нем никаких особенных откровений, все равно жизнь стала казаться богаче, интересней. Имелась своя собственная, личная тайна, к которой можно было приобщаться каждый вечер.
А сколько новых впечатлений, которые непременно требовалось поведать дневнику!
Кружок юных натуралистов, драмкружок, астрономический… Всюду так интересно. Куда бы девалась эта масса впечатлений, если бы не дневник? Исчезала бы бесследно… А теперь каждый вечер бежишь из школы, заранее представляя, как сядешь в своей комнатке, когда все уснут, раскроешь тетрадь, обмакнешь перо в чернильницу, почувствуешь запах чернил и этот запах необъяснимым образом подстегнет твою мысль, обострит впечатления…
Кончился старый 1933 год.
В первый день нового, 1934 года Женя записала в дневнике:
«Сейчас у нас в школе каникулы до 16 января. Вчера нам сказали отметки за вторую четверть. У меня оценки такие же, как и за первую: физкультура — «хорошо», труд — не аттестована, остальные — «отлично». По физкультуре отметка неверная, — я прыгать не умею.
Проснулась сегодня, и так празднично на душе — просто даже щекотно… Хотелось напроказить как-нибудь, чтобы мама поругала, а то уж слишком хорошо и спокойно».
«8 января 1934 года. Больше я ничего первого не писала потому, что к четырем часам на репетицию надо было идти, а времени оставалось мало. Я разбудила маму, она дала мне каши. Каша пшенная, вкусная. Я целых две тарелки съела. И еще — я не хотела при маме писать дневник, никому его не показываю, и никто о нем не знает. Вечером пришла усталая — и спать. А в следующие дни совсем разленилась. Я замечаю: когда мне совсем спокойно, когда не надо бежать куда-то и что-то делать, когда все в твоей жизни тихо и хорошо, мысль становится тупой и ленивой, ни о чем серьезном не хочется думать. Это плохо. Человек всегда должен быть на взлете.
Взглянула сегодня утром в окно — и ахнула. Так чудесно на улице! С вечера валил густой снег. Он облепил ветви деревьев, пригнул их к земле, и деревья стоят, словно сказочные снегурочки. А провода похожи на толстые новенькие канаты. Подул ветерок, часть снега упала, и вот уже плывет в воздухе гирлянда белых цилиндров, нанизанных на провод…»
В следующем учебном году Женю избрали старостой класса. К своим новым обязанностям она относилась очень серьезно. Даже облик ее сделался строже: гладко, на пробор, зачесанные волосы, две косички, перевязанные розовыми лентами… Ребята уважали ее, и не столько за то, что она отличница, сколько за ее обостренное чувство справедливости, за нелицеприятную требовательность. Большинство семиклассников были далеко не пай-мальчиками. А Ленька Мусурин, рослый пятнадцатилетний второгодник, имел даже привод в милицию за хулиганство. На уроке ему ничего не стоило громко заговорить с соседом по парте, стукнуть сидящего впереди книжкой по голове или ткнуть булавкой так, что тот издавал пронзительный вопль. Женя пересела поближе к Мусурину, чтобы иметь его всегда «на глазах». Стоило тому начать свои выходки, как она обращала на него сердитый, требовательный взгляд. Поймав его на себе, Мусурин прекращал озорство. При этом он снисходительно улыбался, давая понять товарищам, что причина такой перемены в его поведении — вовсе не пигалица с косичками, просто самому наскучило.
Однажды на уроке географии в классе раздался грохот, из парты Мусурина пошел синеватый дымок и запахло серой. Мусурин испуганно вскочил, на пол упал самодельный пугач. Видно, выстрел произошел случайно.
Женя поднялась, пристально глядя в растерянные глаза Мусурина, тихо сказала:
— Леня, извинись перед Татьяной Алексеевной.
Это мягкое просительное «Леня» (товарищи называли его не иначе, как Ленька Чугун) повлияло на парня сильнее самого строгого окрика. Он сглотнул слюну и, красный от смущения, от необычности тех слов, которые следовало сказать, запинаясь и опустив глаза, проговорил:
— Извините меня, Татьяна Алексеевна, это я не нарочно…
— Хорошо, Мусурин, садись, — последовал ответ, — и больше пугач в класс не приноси, а то сам же и пострадаешь.
Мусурин согласно кивнул.
В тот же день Женя записала в дневнике:
«Татьяну Алексеевну я очень полюбила. Я делаю вывод — не категорический, конечно, — что все Татьяны хорошие. Она, как только ребята расшалятся, называет всех маленькими детками. В ее присутствии создается какая-то семейная обстановка. Ее все любят. А вот новую математичку Зинаиду Кузьминичну Назарову многие не любят, мне же она ужасно нравится за свой метод преподавания. Она нам почти ничего не объясняет, все основывает на старом, приходится много соображать и работать головой. Мне это очень полезно и интересно».
После уроков, пообедав и выполнив домашние задания, Женя бежала опять в школу на репетицию драмкружка. Сцена стала ее главным увлечением. Руководила драмкружком преподаватель русского языка и литературы Татьяна Ивановна Некрасова. По ее предложению решено было инсценировать и поставить повесть Н. В. Гоголя «Майская ночь, или утопленница». Драмкружковцы повесть хорошо знали, и это упрощало дело.
Стали распределять роли. Роль главной героини, Ганны, Татьяна Ивановна поручила Жене. Та втайне мечтала об этом и, когда мечта ее осуществилась, чуть не захлопала в ладоши от радости.
Распределение ролей прошло бы без сучка, без задоринки, если бы обошелся Гоголь в своей повести без старухи свояченицы. Девочка, которой дали эту роль, наотрез отказалась ее играть. Очень уж несимпатичной выглядела старуха.
Татьяна Ивановна спросила, кто желает сыграть старуху. Все молчали.
— Девочки, так мы с места не сдвинемся, — сказала Татьяна Ивановна. — Роль эта не хуже других, пожалуй, даже интереснее. Надо кому-нибудь ее взять. Не отменять же нам спектакль.
Юные «артистки» только переглядывались, но охотниц явно не находилось. Каждая про себя думала: «А почему именно я должна играть старуху?»
Татьяна Ивановна начала говорить о том, что Станиславский не делал различия между главными и третьестепенными ролями, ибо удача спектакля зависит от хорошей игры каждого актера, каждая роль — почетна. Но горячая ее речь не убедила девочек. Раздосадованная их упрямством Татьяна Ивановна сказала:
— Ну, как хотите. Видимо, спектакль у нас не получится. Можете идти домой.
Огорченные драмкружковцы начали покидать класс. Оставалась на своем месте одна Женя. Когда все вышли, Татьяна Ивановна, одеваясь, обратилась к ней:
— А ты чего ждешь?
Женя встала, будто собиралась отвечать урок.
— Татьяна Ивановна, позвольте старуху сыграть мне. А Ганну пусть возьмет Крылова, ей очень хочется… Для меня роль свояченицы даже интереснее, потому что она трудная… Правда же! Честное же слово! — заметив, что Татьяна Ивановна улыбается, горячо заверила Женя.
А у самой кошки на душе скребли. Так хотелось сыграть Ганну — и вот приходится отказываться. Но что поделаешь — спектакль-то должен состояться… Иначе грош цена их драмкружку, да и всем им, его участницам…
А Татьяна Ивановна улыбалась вовсе не от недоверия. Просто ей было приятно смотреть на Женю. Слушая ее, она думала, что вот такими минутами и платит жизнь педагогу за недосыпание, за переутомление, за вечную издерганность…
«Майская ночь, или утопленница» была поставлена и имела успех. Старухе свояченице в исполнении Жени Рудневой аплодировали так же горячо, как и другим персонажам.
Успех воодушевил. Решили показать спектакль в подшефном селе Черном. Сельский клуб — помещение чуть больше обыкновенной избы, сцена — повернуться негде. Для изображения ночи нужен был голубой свет, но до голубого ли, когда и обычный — керосиновая лампа — едва теплился и коптил в спертом воздухе. Народу набилось столько, что передний ряд зрителей грудью навалился на рампу…
На следующий день, тихонько посмеиваясь при воспоминании о вчерашнем, Женя записывала в дневник:
«И смех, и грех! Подвел нас Молчанов, который исполнял роль винокура Каленика. Накануне он простудился и на сцене шипел и хрипел, словно Змей-Горыныч. Я и Романов, играющий голову, должны бы ужасаться и креститься по ходу его страшного рассказа, а нам не до того — смех душит, хоть со сцены беги. Но зрители, кажется, ничего не заметили, хлопали оглушительно».
«ВО МНЕ ЖИВЕТ И РАДОСТЬ И БОРЬБА…»
В Салтыковке не было школы-десятилетки, и после окончания седьмого класса Женя перевелась в московскую школу № 311 Куйбышевского района. Семья переехала в Лосиноостровскую, поближе к месту работы отца. Да и Жене отсюда легче было добираться до школы.