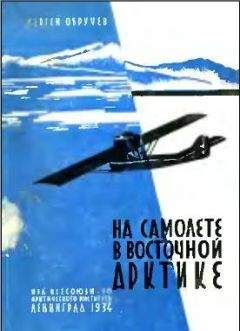Геннадий Фиш - Падение Кимас-озера
Больше всего Тойво боялся упасть.
Подниматься было с непривычки нелегко. Защитный белый балахон путался под ногами.
Из всего обмундирования привычным был только шлем. Валенки, бараний полушубок, шаровары на вате были новинкой; сверх этого трехлинейная (а у кого и автомат через плечо), по двести патронов у пояса, полотенце, веревочка в мешке, консервы, хлеб, шпиг, масло, сахар и по фляге спиртного, — всего на человека двадцать кило.
Мы вышли со станции Массельгской без всякого обоза.
Все на себе.
Выданное довольствие указывало на предстоящее нам большое дело, но в чем оно будет заключаться, никто еще не знал.
Мы шли в колонне по два.
Снег был рыхлый, мягкий. Головной лыжник проваливался в него по колено, и он шел вперед, прокладывая лыжницу, все время преодолевая отчаянное сопротивление этого мягкого, легкого, нежного снега... Через сотню метров головной лыжник выдыхался, и его заменял следующий — из этого же отделения. Так сменялись головные внутри отделения. Так же менялись и сами отделения — на смену одному шло другое.
Мы продвигались быстро только потому, что нас было много. Пять-шесть человек в этом снегу выдохлись бы окончательно на десятом километре.
Тойво — передо мной. Я взял у него часть его груза, говоря, что, когда он научится хорошо ходить на лыжах, пусть он сделает то же самое для меня.
Умению Лейно бегать на лыжах я, признаться, немного завидовал.
Он шел, легко скользя впереди нас по насту, широко расставляя ноги, ловко взмахивая палками. Он был первоклассным лыжником и поэтому почти все время или шел впереди, прокладывая лыжницу для отряда, или уходил в разведку.
С каким наслаждением вдыхал я свежий морозный воздух!
Итти было, по-моему, нетрудно: почти все время по дороге.
Ритм быстрой ходьбы на лыжах, радующая после казармы свежесть воздуха, настоящая молодость и сознание, что скоро придется встретиться с врагом в упор, — нее это бодрило, и мне хотелось петь. И не одному мне, очевидно, хотелось петь, потому что сзади кто-то затянул боевую песню, но строгий окрик светлого, крепкого, словно из одного куска камня выточенного командира первой роты Хейконена прервал песню и дал с еще новой остротой почувствовать всем, что мы действительно находимся на фронте.
Я знал, что темп нашего хода многим ребятам не под силу, и, оглянувшись, увидел, что отряд растянулся не меньше, чем на километр.
Тойво все еще передо мной. Он замолчал, но по катящемуся градом с его лица поту, по необычайной сосредоточенности его серых глаз видно было, что это достается ему нелегко.
Скоро я увидел на спине на балахоне Тойво небольшое влажное пятнышко... Оно постепенно разрасталось, увеличивалось. Это пот прошиб полушубок и вышел на балахон. Когда пятно это увеличилось до размера человеческой головы, он сошел с лыжни и тихо сказал мне:
— Я пойду в хвосте. А ты, Матти, пожалуйста, говори за меня, а то люди, не слыша разговора, подумают, что я сдал!..
Потом уже по величине пятна на спине Тойво я легко определял, сколько километров он еще может пройти без отдыха.
Лейно ушел далеко вперед.
Отдельные отстающие товарищи точками чернели позади.
— Вперед, товарищи, в Паданах у нас будет большой привал, — ободряя, громко сказал Хейконен, и мы вошли в лес.
* * *Мы шли лесом, потом по озеру. Это был настоящий карельский мачтовый сосновый лес.
Капюшоны слетали с голов, когда мы пытались, закинув голову, взглянуть на оснеженные ветви вершин. Это был строевой и перестойный лес.
Дороги не было.
Мы вышли из лесу и пошли по Сегозеру.
Белых мы еще не встречали.
Если бы не патроны у пояса, винтовка через плечо и груз за спиной, всю нашу прогулку можно было представить спортивным состязанием.
Меня уже начинал тяготить груз, и левая нога, очевидно, немного свободно ходила в валенке; остановившись на секунду на одном повороте, я почувствовал в пятке какое-то жжение.
«Есть небольшая потертость», — подумал я и хотел спросить, как у Тойво обстоят дела по этой части, но Тойво рядом со мной не оказалось.
«Очевидно, отстал», — пришло мне в голову, и, оглянувшись, я увидел, что отстал не один Тойво, а еще несколько ребят, среди них и Таннер.
Таннер был до поступления в Интервоеншколу известным борцом и не на одном чемпионате выступал как чемпион Финляндии. Арены многих цирков и арбитры разных мастей до сих пор, наверно, помнят его неуклюжую, медвежью ловкость.
Зимняя ночь наступает быстро, но мы шли быстрее, чем зимний день.
Мы не тренированы, но за нас наши свежесть, бодрость, молодость и тот азарт, с которым мы взялись за дело. Поэтому часам к девяти вечера передовики входили уже в Паданы, большую деревню на берегу Сегозера. Это была последняя деревня по нашу сторону фронта. Дальше, за деревней Лазарево, начиналась сторона белых.
В Паданах мы расположились по избам, выставив охранение.
* * *В эту ночь в охранении я не был и спал, как убитый. Ведь мы проделали переход в семьдесят километров.
Никаких снов. Я думаю, ни одного движения за ночь я не сделал.
Разбудил меня Тойво, дергавший меня за валенок.
Был зимний рассвет.
Тойво, превозмогая усталость, явно торжествовал.
— Товарищ командир, — говорил он, — я пришел не во-время, но все же пришел; позади осталось довольно много ребят.
Здесь ему уже явно нехватило сил продолжать свою речь.
Он свалился на пол и захрапел, лежа на полу в очень неудобном положении.
Лейно, пришедший из охранения, устраивал себе в углу постель из можжевельника. Он осторожно подтянул на постель Тойво, расстегнул ему пояс и снял с его спины винтовку.
— Не думал, что он дойдет, — оказал Лейно, обращаясь ко мне. — Матти, вставай в караул.
Я никогда не испытывал в жизни такой тупой и одновременно острой боли, какая охватила мышцы всего моего тела, когда я начал приподыматься с лавки. Так бывает со всеми, когда после большого перерыва начинаешь снова тренироваться на лыжах, в ходьбе, в беге, футболе, борьбе.
Эта приятная боль в мышцах, которую большинство мальчиков переносит с гордостью, считая ее показателем роста мышц, превратилась сейчас в трудно переносимую боль, возникавшую и, казалось, даже усиливавшуюся с каждым новым движением.
Болели бицепсы, мышцы шеи, мускулы ног, но больше всего ныли мелкие мышцы живота. Трудно было сгибаться, но еще труднее, казалось, было выпрямиться.
Такое ощущение было не только у меня, но у всех. Медленно, со стонами, покряхтыванием оставляли товарищи свои належанные места. Даже Лейно растирал себе бицепсы.
— Энергичнее, быстрее двигайся, Матти, больше двигайся, Матти, — бросил он мне, — тогда все скорее пройдет.
И я начал двигаться.
* * *Мы выступили снова в поход. Мы оставляли озеро и входили в глубокий лес, и, если бы не узкая, но накатанная дорога, я сказал бы: нетронутый лес.
Отряд наш значительно поредел.
В самом хвосте посеревший, молчащий, угрюмо передвигал ноги Тойво.
И вдруг команда Антикайнена:
— Враг слева. Развернуться в цепь вперед!
Дорогой товарищ Тойво, вспомни, как мы разворачивались в цепь, быстро повернувшись в указанном направлении, как быстро летели вперед, теряясь в глубине соснового леса, как горели нетерпением, желая встретиться лицом к лицу с проклятыми лахтарями, как были разочарованы, когда узнали, что это только маневры, что никакого врага нет, что это учеба.
Особенно помню, как был обозлен ты. Тебе-то каждый поворот с грузом за плечами, каждый такой маневр проделывать было очень трудно.
Ты напрягал все свои силы, стискивал зубы и шел вместе с другими.
Захватив таким образом одну деревушку, Антикайнен расставил по дорогам караулы, чтобы научить нас никого не выпускать из деревни, расположил бойцов по избам, чтобы научить, как распределять силы после захвата деревни.
И затем мы снова шли дальше, шли быстро по морозу. Видно было, что в этих местах недавно еще бушевали вьюги.
Дорога была занесена глубоким снегом, а местами и совсем исчезала.
В этот же день мы пришли в Гонга Наволок.
За этой деревней сразу начиналась территория, где не было ни одного красноармейца и совершенно неизвестно, сколько белых.
Расположив свой взвод в теплой избе, сбросив с себя вещевой мешок, проверив, действует ли затвор трехлинейки, я пошел по дороге назад, чтобы помочь Тойво.
Отряд очень растянулся; по дороге шли еще отдельные наши ребята, вспотевшие, с расстегнутыми полушубками. Я приказал одному застегнуться: не няньчиться же нам с воспалением легких, в самом деле!
У многих вид был совершенно измученный; другие проходили несколько шагов и останавливались, морщась от боли.