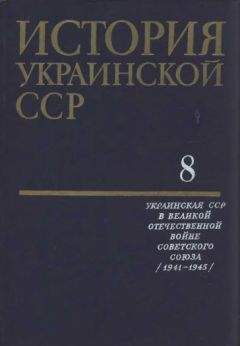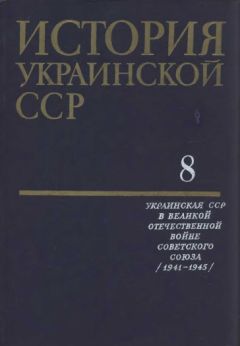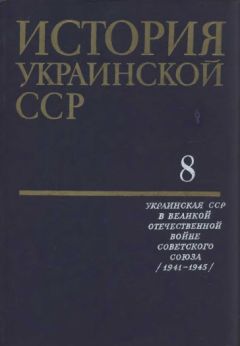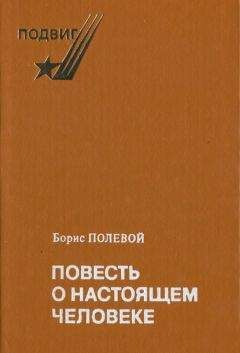Николай Бирюков - Чайка
— Чудная ты, мамка! — весело сказала Катя. — Да как со всеми. Мало ли у нас людей бывает…
— Тише ты — услышат ведь, — испугалась мать. — И в кого уродилась такая горластая. — Она торопливо прошла во двор. — Там, у самых-то дверей, дощечка подгнила — не оступитесь.
В избе было душно и пахло чем-то горьковатым. Переступив порог, Зимин обернулся к Василисе Прокофьевне и Кате, входившим следом за ним.
— А живете вы, хозяюшка, богато, как деды учили. Пар костей не ломит, а?
Василиса Прокофьевна смутилась.
— Не всегда гак… Стала спать ложиться, гляжу — в горнице угол подмок, ну и затопила.
Из горницы, сонно потягиваясь, вышел белокурый мальчуган лет четырех. Он протер глаза, и вдруг они стали у него большими, радостными. Катя поцеловала его.
— Соскучился?
— Aгa…
Мальчик протянул Зимину руку.
— Я — Шурка, катин брат.
— По глазам видно.
Зимин легко поднял его и посадил к себе на плечо. Шурка не возражал.
— А у мамки нынче селедка магазинная. — Усевшись поудобнее, он хитро прищурил глаза. — Подходит?
— Что, что? — рассмеялся Зимин.
— Это он все катины слова перенимает, — пояснила Василиса Прокофьевна, отметив про себя с одобрением: «Просто держится, как и не секретарь все равно».
Катя протянула к Шурке руки:
— Ну, катин брат, сползай ко мне. А вы, товарищи, раздевайтесь да проходите в горницу. Мама не любит, когда стоят.
— Конечно, чай, не столбы, — подтвердила, не подумавши, Василиса Прокофьевна… и обмерла: «Секретаря в один ряд со столбом поставила!»
Но, очевидно, секретарь понял, что она это сказала без умысла, по простоте душевной: раздеваясь, он улыбался чему-то.
«Сошло, не обиделся», — с облегчением заключила Василиса Прокофьевна.
Горница у Волгиных была небольшая, но чистенькая. Вплотную к глухой стене стояла широкая деревянная кровать, покрытая цветастым стеганым одеялом. В изголовьях горою лежали четыре пышно взбитые подушки. Рядом с кроватью — сундук, а у стены, выходившей окнами на улицу, — стол. По одну его сторону желтела тумбочка с высокой стопкой тетрадей, газет и книг; над ней висели портреты Ленина и Сталина. По другую сторону, в углу, на полке в два ряда были расставлены иконы: в первом ряду — маленькие, медные, во втором — деревянные. Перед иконами, мигая синеватым огоньком, светила лампадка.
Из кухни доносился тихий говор и плеск воды: Катя умывалась.
Зимин подошел к тумбочке. На самом верху лежали «Вопросы ленинизма» Сталина и «Моя жизнь» Подъячева; под ними он заметил серенький томик избранных произведений своего любимого поэта. Зимин взял этот томик и полистал. Слова «И жизнь хороша, и жить хорошо!» были подчеркнуты карандашом, а против строчек:
А в нашей буче,
боевой, кипучей, —
и того лучше, —
стояла пометка: «И я так думаю».
«Да, мало у нас в районе, кипучего. А молодежь — вот она, рвется к деятельности… Дать ей простор и подлинных вожаков. Вот на чем следует заострить вопрос на пленуме. Не руководить „вообще“, а вплотную заняться комсомольскими делами».
Катя вошла босиком, на ходу вытирая мохнатым полотенцем лицо и шею. Увидев в руках Зимина книжку стихов Маяковского, засмеялась и взмахнула полотенцем:
— «…Как зверь, мохнатое». Хорошо!
Она расправила на скатерти складки, напевая, достала из шкафа краюху хлеба, погладила поджаренную корочку, и в глазах ее мелькнула та особенная лукавость, которая появляется при мысли, что делаешь неожиданный и приятный сюрприз.
— Хлебом мы богаты!
Когда Василиса Прокофьевна принесла кипящий самовар, хлеб был уже нарезан ломтями. Посреди стола стояла большая жестяная миска с вареной картошкой. На тарелке отсвечивали куски селедки.
Шурка забрался к Кате на колени.
— Стула тебе нет? Большой уже парень! — укоризненно проговорила Василиса Прокофьевна. — Вот и всегда так, — обратилась она к Зимину. — Чуть Катя домой, отдохнуть бы, а он…
— Любит?
— Да как же не любить?.. Кушайте, родные, кушайте. Василиса Прокофьевна пододвинула гостям тарелки с картошкой и селедкой.
— Она ведь в няньках у него была. Потом, сам видишь, — веселая.
— «В нашей буче, боевой, кипучей», веселым — первое место. Так, Катя, а? — спросил Зимин, насаживая на вилку картофелину, серебрившуюся крупинками развара. Картофелина обжигала губы, рассыпалась на зубах. Оттого ли, что сильно проголодался, или действительно картошка была на редкость вкусна, Зимин проглотил ее с наслаждением, как пирожное, и подмигнул Шурке. Мальчуган, нахмурившийся было при первых словах матери, повеселел.
— Как зверь мохнатая! — засмеялся он, снимая с вилки пальцами кусок селедки. С одного бока к селедке он приложил картошку, с другого — хлеб и, разом засовывая все это Кате в рот, восторженно спросил: — Подходит?
Катя и гости засмеялись.
«Секретарь, а простой. Человек как человек», — окончательно успокоилась Василиса Прокофьеана. Глаза ее светились тепло и радушно.
— Кушайте, родные, кушайте. Есть — так уж по-настоящему: кто ленив в еде, тот лениво и работать будет.
Выпив стакан чаю, шофер поднялся.
— Спасибо, хозяюшка!
— Вот те и раз! — всполошилась. Василиса Прокофьевна. — А закусить?
— Нет, хозяюшка, и не проси. Очень даже благодарен, и за угощение и за приятное знакомство. Машину нужно посмотреть, хрипота какая-то в моторе появилась.
Проводив его огорченным взглядом до двери, Василиев Прокофьевна придвинула тарелку с селедкой ближе к Зимину:
— Тебе машину не надо чинить, а после солененького чай-то больше в охотку будет.
— Сыт, Прокофьевна, спасибо!
— Ну, что за сыт! — возразила она. — Что ж, еду обратно со стола тащить? Ты, дорогой, не стесняйся, меня не объешь. Теперь, с колхозами-то, жизнь выравнивается.
— А давно в колхозе?
— Два года. Спервоначалу остерегались… сдуру-то! С нуждой боялись проститься. А тут Катя…
Поймав настороженный взгляд дочери, она замолчала, подолом фартука обтерла губы.
— Что — Катя? — заинтересовался Зимин.
— Катя-то? Да вот как вошла она в комсомол, и давай меня долбить: ступай, мамка, в колхоз, да и только. Книжек про колхозы натащила. Усадит меня и читает. Ну и уговорила. Хоть и дочь она мне, и малолетка, а прямо скажу — поклон земной ей за это.
— Мамка!
— Что — мамка? — осердилась Василиса Прокофьевна. — Что ты, в самом деле, каждое слово мне обратно в рот толкаешь? Не про тебя говорю я, про свое… Теперь, сокол мой, душа отходить начинает, вроде солнышком ее пригревать стало.
— А до колхоза очень плохо жили, Василиса Прокофьевна? — спросил Зимин, внимательно: разглядывая ее лицо. Нелегко, видно, прожитые годы положили глубокую складку между светлыми ее бровями и резко очертили углы рта. В рыжеватых волосах проглядывала седина.
— Ой, и не говори, дорогой, — вздохнула она. — Хлопотали от зари до зари, а земля-то скупо благодарствовала, словно серчала на нас.
Глаза ее, как и у Кати, были голубые, только без искорок смеха, и даже сейчас, при улыбке, не покинула их какая-то грустная озабоченность. Казалось, они все время сомневались в чем-то, хотели расспросить и не решались.
— Так вот и перебивались… Правда, доченька? Василиса Прокофьевна посмотрела на Катю долгим ласковым взглядом и опять повернулась к Зимину:
— Маленькая-то она все грустила… Деревенские наши тронутой ее считали.
Зимин поставил на стол недопитый стакан чаю.
— Как то есть тронутой?
Катя вспыхнула, быстро поднялась и вышла.
— А дочка-то с характером!
— С характером, — смущенно подтвердила Василиса Прокофьевна, прислушиваясь, как дочь гремела чем-то на кухне.
Хлопнула входная дверь.
— Ушла. Язык-то у меня хоть на привязи держи. Не любит, когда о ней рассказываю. Ты уж, родной, про нее не выпытывай, не вводи меня в грех.
Но по лицу ее было заметно, что самой ей сильно хочется войти в этот «грех».
— Может, горяченького?
— Можно, — согласился Зимин и протянул стакан. — А куда же все-таки ушла она? — спросил он.
— Должно, к соседям. Теперь, глядишь, до утра.
— Гм… Это что же, всегда она так гостей принимает: за стол посадит и убежит?
— Проберу я ее за это. — Василиса Прокофьевна машинально сдернула с гвоздя полотенце и принялась мыть посуду.
— О чем это мы? Да! Замаялась я с ней, с Катей-то. Как в понятие она стала входить — и пошло: заиграют где песню, а она — в грусть. Песни-то, поди, приходилось слышать деревенские наши — не теперешние, старинные, про темноту больше, про горе да про судьбу-злодейку. Вот и давай она меня выпытывать: так ли все было, как в песнях? «Так, дочка, — говорю я ей. — И еще темней бывало: солнышко-то, оно, мол, светит, да не нам». А мы в ту пору, милый, к слову сказать, по рукам и ногам кулацкой жадностью были связаны… вся деревня!.. Сказала я ей так про солнышко, а у ней брови нахмурились, и убежала она от меня, не дослушала. «Что, — думаю, — с ней?» Вышла следом — на дворе нет, заглянула в хлев — сидит она там в углу и плачет. Испугалась я, расспрашиваю, а она слезы-то удержать не может, заикается: «Неправильные песни, не хочу их!»