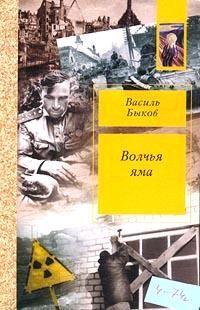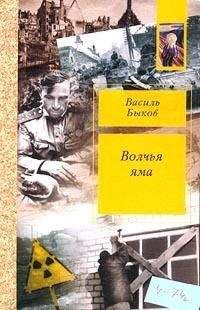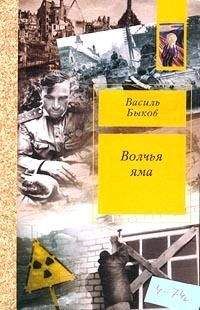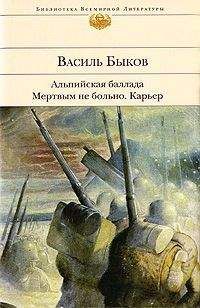Василий Быков - Волчья яма
– И гляди мне крючок! – крикнул вдогонку бомж. – Потеряешь – голову оторву.
– Ладно...
Весь остаток дня он бросал в тихую воду небольшой излучины вырезанный из сосновой коры поплавок, и все напрасно – клева не было. Потом перешел на другое место – подальше, за камыши. Но и там ни разу не клюнуло. Погода тем временем становилась все лучше, было тепло, над водой вились клубки мошкары. Ветер почти унялся. Речная излучина, будто тусклое зеркало, подробно отражала неяркую прелесть лесного берега с ольшаником, низко нависшими над водой кустами лозняка. Под ними в водяных сумерках наверняка есть рыба, подумал солдат, может, даже лещи, но как перебраться туда? Вокруг было тихо и покойно и уже не верилось в угрозу, которая нависла над землей, которой все так боялись. Может, напрасно? Может, этот страх преувеличен? Живет же возле речки бомж, вроде здоров и даже похваляется своей закалкой. «А может, он так, чтобы не думать о худшем, подбодрить себя, а заодно и меня тоже», – думал солдат.
Прежде чем солнце скрылось за вершинами сосен, он выбросил на берег шустрого крохотного окунька – и все. Больше до сумерек ничего не взялось. На воде уже трудно стало различить неподвижный поплавок, и солдат смотал удочку.
– Ну-у, а я думал... – разочарованно встретил его возле костра бомж. – Значит, такое и твое счастье тоже.
– Клёва не было.
– Оно как когда. Как-то за утро я выудил шесть штук. А потом два дня ни одной. Просто зло берет, да и жрать хочется.
– Больше здесь ничего? – спросил солдат, имея в виду пищу.
– А что же еще? Грибам рано. Ягод нет. Людей отселили. Что беглым бомжам остается?
Да, наверно, не много остается беглым бомжам, согласно кивнул солдат. Но что можно предпринять, чтобы раздобыть пищу, он не знал. По всей видимости, не знал этого и бомж.
– Тут, знаешь, такое дело: меньше есть будешь – дольше проживешь, – не понять, всерьез или в шутку сказал он. – Меньше радиации употребишь. Так что бомжам голод полезен.
Пожалуй, с этим солдат не мог согласиться. Он наголодался достаточно, но сил у него от этого не прибавилось, скорее наоборот. Все время в лесу он думал, где бы раздобыть поесть, и только тут у речки появилась такая возможность.
Уже в сумерках бомж поднял удилище и отвязал от лески крючок, который аккуратно прицепил к подкладке телогрейки.
– Надо беречь, а то... Спать хочешь?
– Не очень, – ответил солдат.
– Тогда покарауль огонь. А я кемарну пару часиков.
Зевнув, он на четвереньках забрался в свою землянку-нору в обрыве. Солдат остался возле костра.
Помалу подкладывая в огонь сухие еловые палки, он сонно следил, как их постепенно слизывали до черноты жадные языки пламени. Источив на угли дерево, они и сами опадали, готовые вот-вот исчезнуть, – тогда следовало подложить несколько новых палок, чтобы не извести огонь. Вокруг лежала ночная темень, в которой едва просвечивало тусклое пятно речной излучины; рядом неровно горбился невысокий песчаный обрыв с черной норой. Бор почти перестал шуметь, вокруг царило ночное безмолвие.
К солдату вернулось привычное чувство одиночества, и он стал думать-рассуждать о своем незавидном положении. Впрочем, думал он об этом всегда, словно стараясь что-то решить или что-то понять. Но ни того ни другого до конца не удавалось, он не мог выбраться из той роковой безысходности, в которую его загнала жизнь. Или, возможно, загнал себя сам. Давно поняв цену физической силы, он обнаружил в себе ее недостаток, и это стало причиной его многих бед. Так случилось, что почти все дворовые ребята были старше его и потому сильнее, а он оказался в незавидном положении слабака. Несомненно, у него имелись другие достоинства – он неплохо учился и никому не уступал умом, но это мало что значило перед решающим фактором силы. Если требовалось куда-нибудь сбегать, посылали его, потому что он младше других, если старшим приходило в голову над кем-нибудь поизгаляться, выбирали его. Если у него появлялся ножик, запросто можно было отнять или попросить посмотреть и не отдать. Все знали, что он жаловаться не побежит, потому что у него нет отца. А потом не стало и матери.
Детство – вообще малоприятная штука, солдат в этом убедился давно. Особенно если потеряешь родителей и окажешься на содержании престарелой бабушки. И все-таки он держался, он хотел учиться, была давняя мечта – институт иностранных языков. Английский язык, французский – безразлично, лишь бы уехать. Куда? Все равно куда, только бы выбраться из постылого «поселка городского типа», где после смерти бабушки его никто не любил и он никого не любил тоже. Но в институте он срезался на первом же экзамене – сочинении на тему «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть» и скоро очутился в армии.
«Учебка» запомнилась ему непрекращающимся годичным кошмаром, муштрой и гнетом, когда невозможно было понять, для чего вся эта формалистика, для какой надобности. Логика воинских уставов угнетала своей алогичностью, бессмысленность военных порядков отупляла чувства, на занятиях в классах и на плацу он вроде бы отсутствовал и всегда хотел спать.
Оказавшись после «учебки» в полку, он надеялся, что тут многое будет иначе, что тут – порядочные молодые офицеры, воспитатели и защитники солдат. Но скоро понял, что ошибся: офицеры жили собственной жизнью, зачастую далекой от скрытной жизни солдат. В казарменной толчее, в свободное вечернее время царили иные порядки, чем те, которые предписывались в уставах и были развешаны на стенах ленинской комнаты. Как-то перед вечерней поверкой сержант Дробышев уронил под койку футляр от зубной щетки и обернулся к солдату: «А ну подними»« Вместо того чтобы беспрекословно исполнить приказ, тот коротко бросил: «Сам подними» и тут же полетел в проход от неожиданного удара в лицо. Он не догадался, что сержант умышленно уронил футляр, чтобы заставить его поднять, и эта недогадливость стоила ему багрового фонаря под глазом. На следующий день во время построения на развод командир роты с притворным недоумением поинтересовался: «Что это у тебя?» В строю все напряженно замерли в ожидании его ответа, и он, несколько помедлив, сказал, что упал. «Надо смотреть под ноги», – глубокомысленно заметил ротный. А в отдалении из первой шеренги зло щурился, глядя на него, сержант Дробышев. Солдат решил тогда, что, наверно, поступил правильно, не сказав ротному правды. Но уже на следующий день он в том усомнился. В курилке, где он только присел с ребятами, появился Дробышев и молча двинул ему кулаком под дых – почему не встаешь, когда старший входит? Скорчившись от боли, солдат потащился в казарму, в то время как другие молча и безучастно глядели ему вслед. Никто не вступился, будто так и надлежало поступать с молодыми.
Еще хуже стало в начале весны, когда старшиной роты назначили прапорщика Зеленко. Этот взял за обычай после отбоя кучковаться с друзьями в каптерке, где они выпивали. Иногда кого-либо поднимали в казарме и также вели в каптерку. Как-то после полуночи оттуда вышел с потным раскрасневшимся лицом (может, даже заплаканным) его земляк Петюхов, молча лег на койку и укрылся с головой одеялом. «Что они там?» – но земляк не ответил, лишь вздрагивал от плача. Солдат уже догадывался, что там происходило, молчал, чувствуя, что, пожалуй, дойдет и до него очередь. Правда, пока не доходила, и парень в тревоге ждал, когда это случится. Несколько раз он замечал, как под утро из каптерки выходил явно пьяноватый Дробышев, торопливо раздевался и ложился в аккуратно разостланную для него койку. Однажды, ложась, Дробышев вынул из кармана брюк финку, которую, оглянувшись, сунул себе под матрац. Уж не намеревается ли кого-нибудь зарезать, засыпая, подумал солдат.
...Через несколько дней они, усталые, вернулись из наряда, и только солдат уснул после отбоя, как сразу проснулся от сильного удара в бок – над ним в проходе стоял мордатый радист Подобед. «До прапора», – проворчал он, и парень понял, что его звали в каптерку. После другого такого же тумака вынужден был встать, начал натягивать брюки, потом сапоги. «Босой», – просипел Подобед, и он, помедлив, босой потащился по проходу в каптерку.
Там, еще сонного, с замутненным от страха сознанием, его нагло изнасиловал на полу все тот же ненавистный ему сержант Дробышев; Подобед и Зеленко держали. Истерзанный и униженный, как и недавно его земляк Петюхов, он добрел до своей койки и лег. Но не полез под одеяло, даже не закрыл глаза, а лежал, дожидаясь своего часа. Вокруг в ночном полумраке казармы сопели, ворочались, бормотали во сне, никому не было дела до того, что происходило за стеной в каптерке.
Спустя час или больше к своей койке тихо, словно крадучись, подошел наконец и Дробышев, разделся и лег. Еще через недолгое время послышался его негромкий храп, сержант спал. Солдат поднялся, оделся, аккуратно навернул портянки, натянул сапоги. Все делал не торопясь, основательно, будто тянул время. Оставалось надеть бушлат, но бушлат вместе с другими висел возле тумбочки дневального, который там пристроился кемарнуть в этот глухой час ночи. Виктор подошел к сонному сержанту, осторожно засунул руку под его матрац. Нащупав финку, без размаха, но с необычной для него силой вогнал ее по самую рукоятку в левый бок Дробышева. Тот лишь громче всхрапнул и, не просыпаясь, обвял в койке.