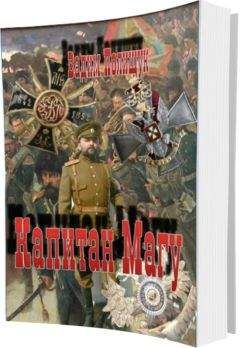Евгений Войскунский - Мир тесен
Это он зря… У Безверхова, конечно, и в мыслях не могло быть, что Еремин так неосторожно высунется из-за прикрытия. Но меня тоже разобрало зло на Безверхова. Строит из себя начальника… не может перенести, если кто-нибудь сидит без дела…
— Пясочку надсыпать! — отчаянно выкрикивал Литвак. — Як же тэта…
Безверхов, с автоматом «Суоми» на груди, стоял над телом Еремина. Его лицо, с остановившимися глазами, было серое, как воздух этого ужасного утра. Будто окаменел Безверхов. Тронь его сейчас, ударь — он не заметит.
Мы стояли полукольцом над бедным нашим Еремой. Угрюмые, обросшие, обвешанные оружием. Шунтиков нагнулся и попытался вытянуть из правой руки Еремина саперную лопатку. Но не смог. Еремин держал ее крепко — со всей нечеловеческой мощью предсмертной судороги.
* * *Не спалось. Обычно после завтрака, после сладкого чая с хлебом без масла, я заваливался на нары в новеньком капонире и засыпал в неслыханном комфорте, в тепле, под треск разгоравшихся в камельке сыроватых дровишек. Это было время нашего отдыха.
Но сегодня не спалось.
У меня в кармане бушлата хранится острый кусок стали, врезавшийся в землю рядом с моей головой. Десяти сантиметров ему не хватило, чтобы найти цель. Это мой осколок. Я суеверно хватаю его при обстрелах. Почему я не сплю? А потому и не сплю, что проклятое воображение рисует, как Шунтиков пытается разжать мою ладонь, судорожно стиснувшую осколок…
Что знал я о Еремине? Да почти ничего. Он называл себя москвичом, но родом-то был из Талдома, городка между Москвой и Калинином. (Вроде Безверхова, который жил в Бологом, но считал себя ленинградцем.) Сашка Игнатьев поддразнивал Еремина, сочинил про него так: «Эта песня всем знакома, кто наслушался молвы. Сапоги тачал Ерема верст за триста от Москвы». Талдом был городок сапожников, и Ерема не отрицал, что до службы работал подмастерьем по сапожной части, а вот насчет трехсот верст он обижался. Спорил с Сашкой, какой город ближе к Москве — Талдом или Сашкин Муром. Но во всем, что не касалось близости Талдома к столице, был Еремин на редкость покладист, сговорчив. Как умел он варил нам супы и кашу. У него водились гвозди, обрезки кожи и резины, и как умел он подбивал и зашивал наши ботинки, разбитые от постоянного лазания по скалам. Ему скажешь: «Ерема, что-то дровец мало в капонире», — он безропотно брал топор и шел рубить сосенки. Вчера, между прочим, срубил и ту, которая, надломившись, образовывала знак неизвестности…
Ни в одном глазу не было сна. Я чувствовал себя сытым войной по уши. А ведь война еще была в самом начале.
Осторожно, чтоб не толкнуть невзначай ребят, спавших слева и справа, я слез с нар и вышел из капонира. Ветер, пахнувший гарью, ударил в лицо.
Возле тела Еремина, с головой накрытого длинной финской шинелью, сидел на камне Андрей Безверхов. Его короткие сапоги со сбитыми носками почти касались башмаков Еремина, торчавших из-под шинели. Глаза у Безверхова были полузакрыты. Реденькая черная растительность курчавилась на серых щеках. Он курил, и я, сев рядом на пенек от срубленной сосны, тоже свернул цигарку и потянулся к Безверхову прикурить. Сыпались искры, тлеющие махорочные крошки. Некоторое время мы молча дымили.
— Римка говорит: «Врет он, твой Ерема», — сказал вдруг Безверхов тихим, усталым голосом, — а я ей: «Чего ему врать? Он что увидел, то и передал мне». — «Нет, говорит, ничего он не видел».
— Какая Римка? — спросил я, хлопая глазами. — Ты о чем, старшина?
— Римма, парикмахерша… — Безверхов словно во сне разговаривал. — Говорю ей: «С чего он станет выдумывать такое? Он вошел и видит, как ты с Шамраем целуешься. Вот как, говорю, ты на мое серьезное чувство ответила». А Римка в слезы…
Я насторожился, услыхав Колькину фамилию. Я знал, что Безверхов, как и Колька Шамрай, служил на БТК — У нас в отряде было много ребят с береговой базы БТК. И Ушкало был оттуда, и Шатохин, и вот, оказывается, и Ерема…
— «Прощай, говорю, я ухожу с разбитым сердцем», — ровно, бесстрастно, с закрытыми глазами продолжал Безверхов. — А она плачет-рыдает и — мне на шею. «Неужели, говорит, из-за этого недомерка все у нас порушится?» — «А как ты думала? — говорю. — Хотела, чтоб шито-крыто? Не-ет, говорю».
Безверхов сделал последнюю затяжку, сунул окурок под сапог и принялся скручивать новую цигарку.
— Недомерок… Станешь недомерком, если сирота… все детство впроголодь, по чужим людям… Ну, не вышел ростом, так за это обижать человека? Он на катера хотел. А его на бербазу. В хозяйственный взвод. Строевым. Куда пошлют. А я бы его на боцмана выучил. Подумаешь — рост. На катере места мало, там даже с таким ростом удобнее.
— Ты плавал боцманом на торпедном катере? — спросил я.
— Человека не по росту видать. — Безверхов делал подряд сильные затяжки, огненная каемка вспыхивала на газетной самокрутке. — Ну, образования мало, четыре класса. У меня-то семь, а у него четыре, так он же не виноват. А душа у него прямая. «Для тебя, говорю, недомерок, а для меня Михаил Иванович». — «Ну, говорит, и иди к своему Михал Ивановичу». — «А ты, говорю, иди к своему Шамраю». Потом, как война началась, помирились. Римка плакала-рыдала. Их всех, женщин, на пароход. Правильно, чего им тут под бомбами. Пароход «Серп и молот». Плавмастерская, что ли. Василий ей говорит: «Ты за моей Зиной присматривай».
Что-то я не поспевал за скачущей речью Безверхова. Да и не все слышал: у него голос срывался, начиналась невнятица. Он ведь не со мной — сам с собой разговаривал, а вернее — с Ереминым. А я-то и не знал, что нашего Ерему звали Михаилом Ивановичем. Ерема и Ерема — так его все звали. Какие-то разыгрывались страсти на береговой базе БТК перед войной. И мой друг Колька Шамрай принимал в них участие. Ну как же — где женщина, там и Шамрай…
— «Она, говорит, воды боится, так ты смотри… подбадривай… до Таллина идти всего-то ничего…»
А, догадался я, это он рассказывает, как Василий Ушкало провожал жену свою, Зину…
— «Ладно, говорит, присмотрю за твоей Зиной, не беспокойся», — бормотал Безверхов, опять сворачивая цигарку. — И ушел пароход… Ушел пароход… ушел…
Он замолчал, поник, задумался.
— Ты бы лег отдохнул, — сказал я, поднимаясь. Усталость брала свое, глаза у меня слипались. — Слышь, старшина?
Он не ответил.
* * *Ушкало вернулся спустя неделю. Была холодная ночь. В шхерах было неспокойно, повсюду взлетали ракеты, с шипением прожигая дорожки в плотной массе дождя. Третьи сутки подряд небо над Ханко исходило дождями, они то моросили, то припускали с тупым осенним остервенением. Били вразнобой пулеметы. На Падваландете, где-то у Вестервика, работала артиллерия, тяжелые снаряды буравили черное небо у нас над головами, и были слышны глухие удары их разрывов на полуострове. А ответных — один-два выстрела. Что-то помалкивали батареи Гангута.
Промокшие насквозь, мы ожидали этой ночью десанта. Но финны только постреливали, а высаживаться не шли — ни к нам на Молнию, ни на Гунхольм, ни на прочие взятые нами «хольмы». Не шли — и правильно делали. Уж мы бы, разозленные этой нескончаемой мокредью, дали им, сатана перкала!
Ушкало привез важные новости. Конечно, для кого как, а для нас, гарнизона Молнии, самой важной новостью была предстоящая выдача теплого белья. Что говорить, мы сильно обносились тут, на холодных гранитах, и наши тельники, трусы и кальсоны давно утеряли, скажем так, свежесть. Этот вопрос, братцы, лучше замнем. Возможна также выдача новых ботинок.
В свете этой замечательной новости поблекла другая: немцы высадили десант на Эзель. Между тем, эта, второстепенная для нас, озябших, была ох какая серьезная. Два очага сопротивления оставалось на крайнем западе Балтийского театра военных действий после падения Таллина — Моонзундские острова и мы, Гангут. Правда, был еще третий очажок — маленький остров Осмуссар у эстонского побережья, но это, как говорится, особь статья. Моонзунд и мы. И вот немцы начали операции в Моонзунде. Идут очень напряженные бои на самом крупном из Моонзундских остовов — на Эзеле. (Ушкало сделал нажим на слове «очень».) Накануне финны бомбили порт Ганге, усиленно обстреливали аэродром, финская пехота опять пыталась штурмовать передний край на перешейке, и это означало как бы предупреждение: дескать, не думайте, что мы про вас забыли, после Моонзунда — ваша очередь.
То есть наша.
Оказывается, Ушкало съездил на Большую землю (так у нас, на островах, стали теперь называть полуостров Ханко) вместе с командиром и комиссаром отряда. Их вызвали на партактив базы. А Ушкало комиссар взял с собой, чтобы тот повытряхивал душу у снабженцев: пусть не жмутся! Пообносился десантный отряд! И главное, чтоб Ушкало разыскал ребят с морских охотников, которые рассказали лекпому Лисицыну ту историю — ну, вы помните.