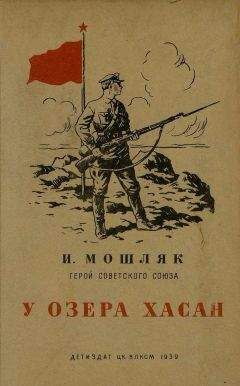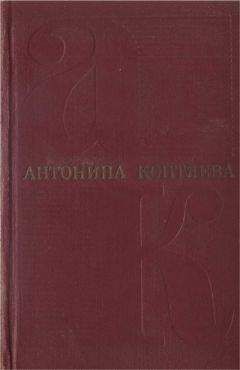Вадим Пархоменко - Вдалеке от дома родного
А случилось у Петьки с Надей все так.
Несколько дней после того, как произошла неприятная для Петьки история с прической, он старался не попадаться на глаза Красной кофточке. Но однажды, когда военрук проводил с четвероклассниками во дворе школы занятия по штыковому бою, Петька почувствовал, что на него кто–то глядит. И тут же получил рыхлым снежком по затылку.
Он обернулся и замер. Шагах в десяти сзади стояла она, Надя, и смеялась.
Выйдя на школьное крыльцо, старушка уборщица трезвонила в медный колокольчик. Перемена! Большая перемена, двадцать минут!
Петька хотел было уйти куда–нибудь в сторону, но почему–то, сердитый и хмурый, пошел прямо на свою обидчицу — Красную кофточку.
— Ты разозлился ужасно, не отрицай, — сказала она. — Обижаться не надо. Если бы ты видел себя, ты сам бы… — И она снова залилась смехом.
Но на этот раз он нисколечко не обиделся. Только сказал:
— Подумаешь, волосы растопорщились!
— А ты ловко чучела колешь, — польстила она и тут же добавила: — Только вот с гранатой, говорят, у тебя плохо. Слышала я, как ты вчера про «рубашку» в ближнем бою забыл…
— Ну, это я так, — пробормотал Петька. — Не о том думал, когда военрук мне вопрос задал. О чем же ты думал?. О новой прическе? — съехидничала Надя.
— Ни о чем, — засмущался он. И вдруг бухнул смело: — О тебе.
— Обо мне? — Надины глаза широко раскрылись, и веснушки еще ярче засверкали на ее курносом лице. — Ну тогда беги, а то я снова расхохочусь!
Петька принял это за искреннюю шутку и побежал, но, оглянувшись, неожиданно обо что–то споткнулся, упал и сунулся лицом в зернистый, как наждак, подтаявший снег.
— Ха–ха–ха! — знакомо звенело на весь школьный двор. — Смотри под белы ножки, витязь!
А «ножки» у него были действительно белые — в мягких, снежного цвета пимах, разве что чуть замаранных крапинками поросячьей крови, оттого что он помогал вчера завхозу дяде Коле резать борова–перестарка.
Петька зло поднимался с земли, потирая ушибленную коленку. «Ну и вредина, — подумал он о Наде, — вот врежу ей сейчас…» Но в тот же момент услышал:
— Больно тебе, Петя? Надо же так неуклюже грохнуться!
Она стала варежкой отряхивать с него снег.
И Петька засиял, заулыбался. — Ну что ты, Надя, — сказал он. — Я совсем понарошку упал, и мне совсем не больно!
Так началась их дружба, которая потом длилась много месяцев.
Они встречались теперь почти ежедневно. Петька жертвовал даже ужинами, его ругали и наказывали за то, что он пропадает неизвестно где, но не встречаться с Надей он уже не мог, а «где пропадает» — а то была его тайна. Разве что Лука знал. Потому и беспокоился —; не подведет ли Петька Иванов? Надежным ли будет в задуманном?..
* * *…Шел май тысяча девятьсот сорок четвертого. Было совсем уже тепло и сухо.
Однажды Лука ухватил Петьку за рукав и зашептал:
— Не забыл? Не раздумал? Помнишь, я хлеб обещал на дорогу достать? Так вот, полный порядок теперь получается!
— Хлеб давай, если есть. А я не раздумал, — уверенно ответил Петька. — У меня уже кусков сорок засушенных в матрасе лежит. А твое где?
— Слушай и молчи, — зашептал Костя. — Завтра… Договорились так: во время обеда Лука спрячется в столовой под лавку в самом углу, прикрытом от посторонних взглядов столами, и, когда все уйдут, далее повариха из кухни, он вынет стекло из оконной рамы и передаст Петьке, который будет «прогуливаться» во дворе, пару буханок хлеба. Потом опять залезет под лавку и пролежит там до ужина. Тогда снова вставит стекло, выберется из своего укрытия и, как ни в чем не бывало, окажется за столом среди ребят. Все будет шито–крыто…
Наверное, так бы оно все и было, если бы не подвел Витька Шилов, которого попросили постоять «на атасе» (Витьке пообещали четверть буханки). Точнее говоря, подвел не столько Витька, сколько его недавно удаленный передний зуб.
Минут через сорок после обеда, когда столовая опустела и тетя Ася закрыла ее на большой амбарный замок, Петька поставил Шилова на тропке, ведущей с улицы в интернатский двор, а сам с беспечным видом стал прохаживаться по двору под окнами столовой. Вскоре в одном из окон он заметил физиономию Луки, прижавшегося носом к стеклу.
Петька успокаивающе кивнул: мол, в порядке, действуй!
Отогнуть несколько острых треугольных кусочков жести, вбитых вместо гвоздиков для крепления стекол в раме, было для Кости парой пустяков.
Стекло вынуто, и он шмыгнул на кухню к большому шкафу, где, аккуратно сложенные друг на друга, лежали аппетитные буханки хлеба.
Петька заглянул за угол. Там, метрах в двадцати, засунув руки в брюки и лихо сдвинув на затылок серо–рыжую выгоревшую кепчонку, стоял на своем посту Витька Шилов. Вроде бы все спокойно.
В глубоком синем небе, распластав могучие крылья, медленно и плавно кружил громадный коршун. Круги полета его становились все уже и ниже… «Неужели наш Васька? Вспомнил–таки!» — подумал Шила и осекся: на тропке появилась воспитательница Галина Михайловна Топоркова.
Витька хотел было свистнуть, как договорились, но тут–то и подвел его удаленный зуб: вместо свиста получилось противное шипенье…
А в это время Петька пошел глянуть за другой угол, со двора, не угрожает ли оттуда опасность?
Витька Шилов, поняв, что прозевал воспиталку, позорно удрал, а Топоркова, поравнявшись с окном столовой, за которым в полной безопасности, как ему казалось, орудовал ничегошеньки не подозревавший Лука, получила прямо из его рук буханку хлеба…
Тут и Петька вынырнул из–за угла.
Было обидно: так хорошо задумали, а получилось…
В наказание у Луки и Петьки отобрали штаны и верхние рубашки — лежите, мол, на своих топчанах, как больные. В уборную и в исподнем сбегаете, а еду вам, как барам, в постель доставят. Будет стыдно — дурь из головы скорей выскочит.
Так они пролежали целый день. А на следующий…
В ночь на следующий Петьке приснился плохой сон: сияет солнце, а он давит босыми пятками ледяной снег, и дико мерзнут Петькины ступни, и хочет он найти свои почти новые ботинки, чтобы надеть их и согреть закоченевшие ноги, а не может…
Проснулся он оттого, что очень уж захотелось на двор. Сунул руку под топчан — ботинок нет. Тогда он, пока еще смутно, кое о чем стал догадываться. Полез под набитый сеном матрас, где в старой наволочке хранил сухари, а сухарей нет! Глянул туда, где должен был спать Лука, — и Луки нет.
Диким зверем взвыл Петька Иванов и понял впервые в жизни, что такое жестокость…
* * *Лука удрал с тем самым сыном местной учительницы — Толькой Бессоновым. Очевидно, у него он получил недостающую одежду — рубашку и штаны. А пальтишко прихватил у «свистуна» — Витьки Шилова.
На новом месте
Лето тысяча девятьсот сорок четвертого выдалось жаркое. Даже очень. Гольяны в Становом и то задыхались: вода слишком теплой стала.
Чубатый подросток, лихо гикая, весело подогнал черную лошадь, запряженную в телегу, к самому крыльцу. Звали чубато–чернявого Юркой Талановым, и был он из другого, окраинного интерната, впрочем тоже ленинградского.
Теперь оба интерната объединялись: война шла к концу, и незачем было на полторы сотни мальчишек и девчонок держать полтора десятка нужных стране людей — педагогов, учителей, воспитателей. Тем более, что в школе преподавали в основном учителя из местных.
— Э-эй! Быстрей–веселей, грузи–погружай! — крикнул паренек. — Осталось что? Ерунда: доски да козлы, да пара бочек, да десяток подушек!
Рудька Шестакин, с трудом взгромождая на телегу бочку для питьевой воды, спросил:
— Конь–то хорош? И давно ты с ним управляешься? Вот у нас бык был — Соколом звали. Да на мясо забили…
— «Бы–бы», — подразнился Талан. — Был бык и нет быка? Смехота! На мясо? Надо же! Да я свою Ночку чтобы под нож позволил!
Огольцы нахмурились. Ребят из чужого интерната они знали, в школе одной учились, но всегда чурались их, потому что были те очень уж культурненькими, тихонькими, да и голубей не держали, и гольянов не ловили, и сок березовый не пили.
— Ты зря говоришь так, — сказал Вовка Рогулин. — У нас тоже Ночка была — корова. Да и ее зарезали. На мясо. Между прочим, слыхали, что половину туши вам отправили. По бедности или жадности вашей. Или чтобы ты эту Ночку, кобылу то есть, сберег, дурак!
— Но–но! — обиделся Талан.
— На кобылу свою нокай! — заругался Валька Пим. — А то толку не будет! Теперь вместе нам жить, а как тогда мириться с твоим нахальством? А?
— Да что вы взъелись? — пошел на попятную Талан. — У вас была Ночка, а у нас есть Ночка! И не кобыла она, а конь. За темную масть так прозвали…
Мир был восстановлен.
Пара колхозных быков да мерин, по недоразумению названный Ночкой, за несколько ездок перевезли нехитрое интернатское имущество.