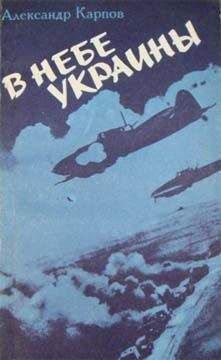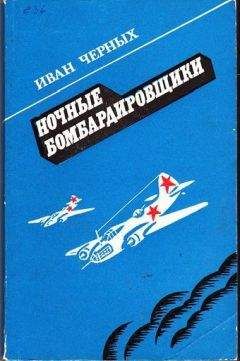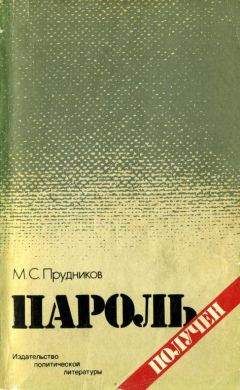Георгий Жуков - Один "МИГ" из тысячи
«В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Союза ССР Ставка Верховного Главного Командования приказывает: за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава преобразовать 55-й истребительный авиационный полк в 16-й гвардейский истребительный полк.
Сердечно поздравляю весь личный состав полка с этой высокой честью. Уверен, что в дальнейшей борьбе с фашизмом ваш полк так же беспощадно, по-гвардейски будет громить врага до полного его уничтожения.
Быть гвардейцем — великая честь. Держите свою славу высоко. Пусть боевое гвардейское знамя вдохновляет вас на новые подвиги. Вперед, дорогие соколы!
Командующий Военно-Воздушными Силами Южного фронта генерал-майор авиации Вершинин».
— Ясно? — неожиданно сурово спросил Покрышкин, сворачивая телеграмму. — Ну, вот... В общем командующий тут так говорит: если вы там, в Дарьевке, проморгаете хоть один немецкий эшелон, с вас три шкуры будет спущено. Ясно? Чтобы ни одна мышь к переднему краю без вашего ведома не проскочила! Вот какой теперь будет гвардейский разговор.
Ему льстила доверенная командиром полка роль вестника столь знаменательной новости, и он старался держаться возможно солиднее. Конечно, не мешало бы по такому случаю сказать настоящую громкую речь, — вот покойный Дьяченко, тот наверняка сумел бы блеснуть. Но ведь не каждому суждено быть оратором. И Саша, вздохнув, сказал вдруг сердито Лукашевичу:
— Ну, что ж ты? Зови гостей к столу...
Обедали шумно, весело. Были тосты, песни. Труд осторожно обогнул стол, вышел на середину и отбил такую звонкую чечетку, что в окнах стекла задребезжали. Покрышкин сидел молча, думая о своем. И вдруг сказал Грише Чувашкину:
— Выпьем-ка за руки техника!
Чувашкин конфузливо отдернул со стола свои распухшие, растрескавшиеся, пропитанные маслом и грязью руки.
— Да, да, вот за эти самые, сто раз обмороженные и двести раз обожженные, дубленные бензином лапы! Думаешь, я забыл, как ты летом по всем совхозам возил бак от моего «МИГа» варить? Тут уже немцы на подходе, а ты с этим дырявым баком по дорогам колесишь!..
Гриша покраснел. Он и в самом деле тогда чуть не попал в окружение из-за этого бака. Заварить пробоину не удалось, но техники ухитрились накрепко залатать бак перкалем и эмалитом. С этой латкой «МИГ» и дожил до конца своих дней.
— Так вот, товарищи, — сказал, повысив голос Покрышкин, — я пью за руки техника, без которых не получили бы мы гвардейского знамени. Ясно? А тебя, Чувашкин, как только получим новые машины, я заберу в свой экипаж. Идет?
Гриша хотел было что-то ответить, но тут на противоположном конце стола опять затянули песню, и Покрышкин с досадой отмахнулся, — случайно ли, нет ли, но Даня Никитин завел любимую Сашину песню:
Коли, жить да любить.
Все печали растают,
Как тают весною снега...
Цвети, золотая,
Звени, золотая,
Моя дорогая тайга...
Саша погрустнел. Вспомнилась Сибирь, вспомнился Краснодар, где до войны молодые техники певали эту песню, усевшись на сочной зеленой траве у реки Кубани. И как-то обидно стало, что вот ему уже скоро тридцать лет, а за хлопотами и трудами своими он так и не успел устроить свою личную жизнь, и только мать в далеком Новосибирске помнит и поджидает его. А Никитин снова запевал:
И пусть не меня, а его за рекою
Любая минует гроза,
За то, что нигде не дают мне покоя
Его голубые глаза...
Песня плыла, звенела... И Саша, глядя на распевшуюся молодежь, немного ревниво и, пожалуй, даже завистливо думал о том, что вот они, Труд, Никитин, Супрун, кончат войну еще совсем молодыми и жизнь у них будет иная...
В конце апреля в Дарьевке собрался весь полк. Прибыло пополнение. Гвардейцы получили бесценный по тем временам дар: целую эскадрилью новеньких истребителей «Яковлев». Эти самолеты обладали более мощным мотором, чем «МИГи», меньшим весом, они могли развивать большую скорость на низких высотах и гораздо легче маневрировали.
Освоение «Яковлевых» было поручено Крюкову. Под его руководством группа пилотов на небольшом, но удобном аэродроме в тихом шахтерском поселке близ Ворошиловграда, училась летать и драться на новых машинах. Остальные летчики продолжали вести усиленную разведывательную службу и прикрывали свои войска от немецких разведчиков.
Скупая донецкая земля уже надела недолговечный праздничный наряд. Пока не вошло в силу злое летнее солнце, буйно зеленели травы, поспешно выгнал метелки пырей, потянулся к небу лисий хвост, медоносный донник спорил за место с клевером, а над всеми торжествовал колючий татарник, уверенно выбрасывавший свои большие жесткие листья. Засуетилась в траве живучая степная мелкота, засвистали суслики, запели жаворонки. На пригорках расцвели неяркие степные цветы, и тонкий медоносный аромат витал над степью.
Теперь летчики с утра до вечера дежурили у своих машин, замаскированных соломой и сеном. Утром 5 мая в ожидании полета Труд и Никитин, лежа на скирде, сочиняли новую песенку: Даня вспомнил лихой цыганский мотив, и им захотелось подготовить новый юмористический номер для самодеятельности. Песенка посвящалась описанию одной из встреч Никитина с немецкими истребителями. Два куплета уже были готовы, и Труд мурлыкал:
Как-то раз я над Харцызском
«Мессеров» двух повстречал...
Даня вмешивался и низким тоном выпевал припев:
Пушечный взгляд,
Желтый наряд!
Труд делал встревоженное лицо и продолжал:
«М-35»[3], тебя я умоляю, —
Подтяни хоть пять минут...
Авторитетно заявляю —
Сейчас я в хвост ему зайду...
— Пойдет! — солидно сказал Даня. — Теперь надо сказать, как я делаю «горку», потом «иммельман» и с разворота...
— Никитин, — послышалось вдруг снизу, — к командиру!
Даня кубарем скатился со скирды, бросив на ходу:
— В общем ты там подумай...
«МИГ» Никитина взвился в воздух. Проводив его взглядом, Андрей стал думать над рифмой к слову «иммельман». Кроме слова «ранверсман», он ничего подобрать не мог, а «ранверсман» тут явно было ни при чем. Ему стало скучно, и вся затея потеряла интерес: мыслимое ли дело — описать воздушный бой в стихах? Хорошо было Пушкину: ни «мессершмиттов», ни автоматических пушек. Знай пиши про ядра да картечь!
Андрей вздохнул и поглядел на горизонт — пора бы уже Дане возвращаться. И вдруг он заметил нечто такое, что заставило его забыть обо всем на свете, кроме того, что в эту минуту происходило там, в небе. Со стороны переднего края летел, растопырив голенастые ноги, немецкий самолет «хейншель-126». Он шел со снижением, и за ним стлалась густая черная струйка дыма — гитлеровец перегрузил мотор, стремясь уйти от преследования. На него наседал «МИГ», не давая свернуть с прямой. Это был самолет Никитина. Видимо, он хотел заставить немецкого разведчика сесть на нашем аэродроме.
Летчики и техники, задрав головы, следили за маневрами товарища, восторженно приветствовали его криками и швыряли кверху шлемы. Но тут из облака вывалились три «мессершмитта», спеша на выручку своему разведчику.
— Данька!.. «Мессы»! — завопил Труд, словно Никитин мог услышать его.
Но Никитин заметил опасность. Подойдя ближе к «хейншелю», он в упор прострочил его длинной очередью и круто развернулся навстречу «мессершмиттам», применяя свой любимый прием — лобовой удар. Это, видимо, удивило гитлеровцев. Они наверняка думали, что советский летчик постарается уйти от неравного боя. Развернувшись в стороны, «мессершмитты» снова нырнули в облака и, перегруппировавшись, выскочили сразу с трех направлений, стремясь зажать Никитина в клещи.
Но сделать это было не так просто: девять месяцев пребывания в полку не прошли для Никитина даром, и теперь он стал зрелым истребителем. Резко сманеврировав, он опять загнал двух немцев в облака, а третьего отколол и стал яростно клевать короткими, точными очередями. «Мессершмитт» задымился, окутался пламенем и огненным клубком свалился на землю.
Летчики зааплодировали, но тут же притихли: теперь Никитину приходилось туго: двум уцелевшим немецким истребителям удалось, наконец, подбить его машину. «МИГ» резко накренился и как-то неуверенно закачался.
— Собьют, сволочи!.. — прошептал Труд, не отрывавший глаз от самолета своего товарища.
Никитину все же удалось развернуть свой самолет. Теперь он шел прямо в лоб на один из «мессершмиттов», не ведя огня: видимо, у него кончились боеприпасы. «Мессершмитт» не сворачивал; разгоряченный и злой от неудач, немецкий летчик не хотел уступить дорогу русскому.