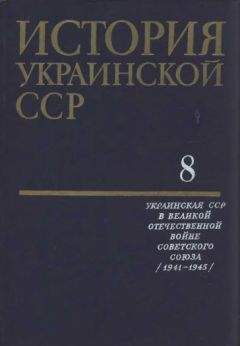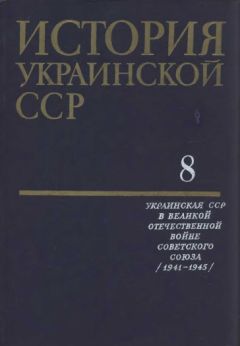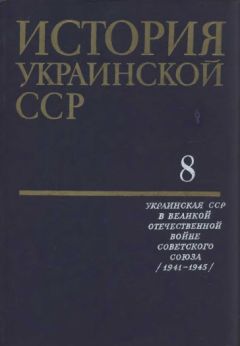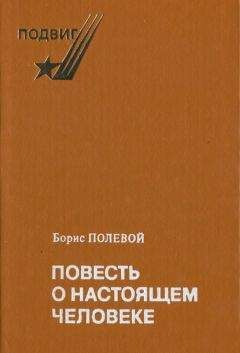Николай Бирюков - Чайка
Оттого, что не было тишины, у Василисы Прокофьевны легче стало на сердце. В руки и ноги вновь возвращалось ушедшее было тепло. Она подошла к окну. Освещенные луной, на улице мелькали серые фигуры красноармейцев. Василиса Прокофьевна отвернулась. Вид отступа войск уже не затрагивал ее чувств: в сердце угасла надежда, и оно онемело. Если отступают, то не все равно — сейчас или через полчаса, быстро или медленно. Жизнь отдается на растерзание — это главное, а время играет существенной роли.
— В Певске немцы! — услышала она крик на улице и в мыслях сразу, без раздумий, сложилось решение: Катя не пришла, то она сама пойдет туда — мертвую отыщет, сама похоронит. «Да, надо скорее туда, в Певск». Она шагнула к кровати, чтобы взять, шаль, но во дворе залаяла собака, хлопнула калитка.
«Наверное, Маня с Шурой…»
Дверь распахнулась и на пороге показалась Катя.
— Катенька! — Василиса Прокофьевна прижалась к ее груди и разрыдалась.
— Ничего, мамка, ничего… Потерпим, — целуя ее, проговорила Катя запыхавшимся голосом.
Что-то теплое капнуло на руку Василисы Прокофьевны. Она приподняла голову и с криком «Господи!» отшатнулось. Лицо Кати было в крови.
— Это ничего, пустяк. Поцарапало щеку — только и всего, — с трудом проговорила Катя: она все еще никак не могла отдышаться.
Мать засуетилась. Зажгла лампу. Катя, вздохнув, опустилась на стул.
— Где эта тебя? В Певске? — обтирая ей лицо мокрым полотенцем, спросила мать.
— У Залесского. Наскочила на немцев, едва отбилась! — Она потрогала расстегнутую кобуру. — Все заряды выпустила.
— Что же, в Залесеком-то уже немцы?
— Немцы.
Царапина от пули была неглубока. Василиса Прокофьевна нашла на полке пузырек с йодом, смочила им вату и осторожно провела ею по щеке дочери. Лицо Кати передернулось.
— Завязать?
— Не надо.
Катя поднялась, поправила ремни портупея. На рукаве гимнастерки алело пятнышко крови. Она потерла его кончиками пальцев.
— Катюша, что ж… — Василиса Прокофьевна стиснула ее руки. — Как же ты теперь?
— Сейчас ухожу. Ты проводи меня, мамка, до парома.
— Уходишь? Куда?
Катя промолчала. Мать посмотрела на нее долгим взглядом и не стала расспрашивать.
Вся улица была заполнена отступающими войсками. Пахло гарью и пороховым дымом. Где-то близко слышались пулеметные очереди. Слева от горящего дома сельсовета, нацелив в небо узкие жерла, непрерывно били два зенитных орудия. У ворот двора Лобовых, попав колесом в яму, застрял грузовик. Из-за него, ковыляя, вынырнул Филипп. Увидев стоявших в калитке Василису Прокофьевну и Катю, подошел к ним.
— Катерина Ивановна… без сына уезжаем… — Он вытер глаза и, махнув рукой, заковылял дальше.
— Филипп!.. — окликнула Катя, но председатель уже скрылся за углом. — Что с Васькой?
Проводив взглядом удаляющийся самолет, Василиса Прокофьевна рассказала ей о васькином письме.
— С самого вечера ищут. Марфа так убивается, будто его и в живых уж нет. А может, и на самом деле… Снаряды-то и сюда долетали.
Они перешли на другую сторону улицы и выбрались на луг.
Поблеклая, рыжая трава мертво приникла к земле. Целую неделю лил дождь, и земля размякла, вдавливалась и как бы дышала под ногами.
— В партизаны уходишь? — догадалась Василиса Прокофьевна.
— Да.
— Доченька! Так… тебя же убить могут!
Катя обняла ее и, увлекая за собой к реке, сверкавшей вдали у отлогого берега, сказала:
— Об этом я и хочу поговорить с тобой, мамка, на всякий случай. Если услышишь — убили твою дочь или поймали, не говори ничего, не признавайся, а то весь колхоз спалят… И себя погубишь… — Помолчав, она крепче прижала к себе мать. — От них всего ожидать можно. И лучше, если бы все вы, всей деревней ушли в лес. И голод, и холод, и смерть — все лучше, чем гитлеровцы. Ты сейчас придешь, потолкуй об этом с колхозницами. Ладно?
Василиса Прокофьевна кивнула.
Так, обнявшись, они дошли до берега. Поднялись на высокий холм. Волга серебрилась, морщилась волнами… Шуршали прибрежные камыши. Справа, вплотную подступив к реке, шумели сосны. От середины реки, вспенивая волны, подплывал паром. Катя напряженно вглядывалась в окутанный полусумраком противоположный берег: там ее должен ждать Федя. Налетел сырой, резкий ветер. Он растрепал выбившиеся из-под платка волосы Василисы Прокофьевны, и они развевались, белые и тонкие, как паутина. Катя придержала их рукой.
— Старенькая ты у меня, мамка…
Василиса Прокофьевна улыбнулась, но в глазах ее были тоска и боль: казалось, душа кричала. И Катя опять, как и на последнем собрании актива, ощутила, что ворот гимнастерки слишком тесен. Она расстегнула его.
— Ты, мамка, не думай, что теперь все кончено, и другим говори, чтобы не думали так. Это неправда, — в голосе ее хотя и слышались слезы, но прозвучал он горячо, убежденно. — Главное сейчас, мамка, духом не падать, выше держать голову. Станет тяжело — ты думай: за нами — Москва, а в Москве — Сталин. Он все знает, он обо всех думает — обо мне, о тебе…
Земля под ногами загудела. Вдали где-то сильно ухнуло — еще и еще раз. У горизонта, над лесом, заклубились огни и черный, как сажа, дым.
— Мост под Головлевом взорвали, — тихо сказала Катя.
Василиса Прокофьевна со стоном призналась:
— Тяжело, дочка! Будто душу из меня выдирают.
— Ничего, мамка, ничего… Народ выстоит, всё перенесем, а на фашистов работать не будем.
— Да кто об этом говорит!..
Опять загудела земля, но гул взрывов донесся с другой стороны. Вероятно, взрывали мост под Певском.
— Что же еще?.. — Катя провела по лицу рукой. — Да, о смерти-то я сказала… Ты не думай об этом. Это ведь так, на всякий случай… Партизаны, сама знаешь, — это тоже война. А где война, там смерть. Но ведь и с войны назад возвращаются, не все погибают. А я вот чувствую, мамка, ни за что меня не убьют. Никогда! Прогоним немцев — и опять заживем… отстроим все, что потеряли.
«У меня-то уж не хватит сил для второй жизни. Кончилась моя жизнь», — мелькнуло в мыслях у Василисы Прокофьевны.
Мать и дочь… Они стояли, обнявшись, и сквозь слезы смотрели друг другу в глаза. Близко, совсем близко опять забили орудия. Пора было расставаться. В глазах Кати лицо матери, теряя очертания, расплывалось в белое пятно. Ноги отяжелели, и губы точно срослись-не разжимались, не хотели сказать: «Прощай». Уйти от матери, оставить ее немцам… Оставить мать, старую и такую родную до последней морщинки! Тяжело… Взять бы с собой в лес — тоже нельзя: она нужна Шурке, Мане. Что они будут делать без нее?
— Скорея-а-а! Катя-а-а! — донесся с того берега голос Феди.
— Иди, дочка… — прошептала Василиса Прокофьевна.
— Сейчас, мамка, сейчас… — тоже шепотом ответила Катя и не сдвинулась с места.
— Немцы-ы! — кричал Федя.
Катя крепко-крепко прижала к себе мать, — так крепко, что заныли руки, и поцеловала ее. Василиса Прокофьевна разрыдалась.
— О-о… я-а-а-а… — доносило эхо федин голос.
Катя расцепила руки и побежала с холма вниз. Ей казалось, что бежит она сквозь плотную стену дыма. Что-то еще упущено… «Вот о Шурке и Мане, кажется, ничего не сказала».
Лохматый черный клубок с разбега ткнулся ей под ноги. Катя испуганно отскочила в сторону, но это была собака. Затрещал прибрежный куст. Катя схватилась за кобуру.
— Не пугайся, Катерина Ивановна, это я. К ней вышел Васька.
— Ты зачем здесь, Вася?
— С тобой вместе… в партизаны.
— В партизаны? А откуда ты знаешь, что я в партизаны иду?
Он улыбнулся.
— Так я же здесь сидел, в кусту, и все слышал.
Катя вспомнила расстроенное лицо Филиппа и рассказ матери о васькином письме. Она подошла к мальчику, заглянула в его доверчивые, преданно смотрящие глаза.
— Мал ты, Вася, нельзя. Беги скорей домой. Ты знаешь, как тебя отец с матерью ищут!
— Знаю. Слышал…
Он нахмурился и, наклонив голову, сердито засопел. В мыслях его был теплый апрельский день, в который провожал Катю до этого парома. Они сидели вот здесь на берегу, а Катя рассказывала о Павке Корчагине. Она говорила, что надо быть таким, как Павка, а теперь…
— Что же, Павка-то большим, что ли, был, когда в армию ушел? — спросил он угрюмо, не справляясь с дрожавшими губами. — «Мал»… Как на поле работать, так в самый раз был, а теперь мал…
Катя едва заметно улыбнулась. Она любила мальчишку. Затаив дыхание, он смотрел на нее, ожидая когда она произнесет два желанных слова, только. «Хорошо пойдем».
— Нет, Вася, — решительно сказала Катя. Паром, подплыв, мягко ткнулся о берег.
— Будь, Васенька, умным, иди. — Она обняла его. Если своих не застанешь, иди к моей мамке, у нас будешь жить.
Васька опять наклонил голову и всхлипнул, а Шар сердито заворчал на незнакомую женщину, которая сошла с парома и, кутаясь в шаль, молча прошла мимо.