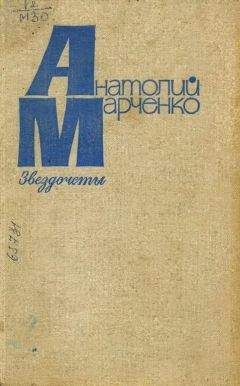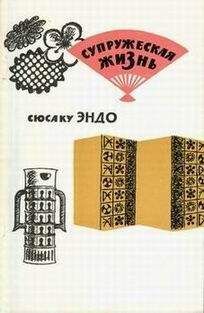Анатолий Марченко - Как солнце дню
Я остановился первым. Она, вероятно, восприняла это как нежелание уходить слишком далеко от землянки.
— Еще семь шагов, — попросила она. — Я, дурная, верю в приметы. Древние римляне считали эту цифру счастливой.
Я выполнил ее желание. Деревья спали. Она прислонилась к стволу, и я не услышал, а почувствовал, как в ее груди часто и тревожно бьется сердце. И от этого мое сердце тоже застучало сильнее, порывистее.
— Самое страшное, — сказала она без грусти, — это то, что мы уже никогда не станем прежними.
— Почему?
— Война… Она так и будет стоять между нами…
— Но ты же… не случайно? Я знаю, знаю, тебе нельзя никому говорить об этом. Даже мне. Это правильно, это так и надо, и я понимаю. Но тебя же специально… Ну, я не прошу отвечать на этот вопрос. Не отвечай, но ты же отпустила Галину. Хотя ты очень рисковала. И наверное, не только это. Ты не рассказывай, это нельзя, разве я глупец? Я все понимаю…
Я говорил и говорил, боясь, что она опровергнет мои предположения, и мне хотелось лишь одного: чтобы она хотя бы намеком, кивком головы подтвердила то, о чем думаю я.
— Запомни, Алеша, — все так же тихо и спокойно сказала она. — Никто, — она выделила это слово, — никто меня не оставлял у немцев. Я сама осталась. Антон не соврал тебе. В немецкой газете есть снимок.
— Значит, — медленно произнес я, отшатнувшись от нее.
— Да, — сказала она еще тверже, — все это правда.
Я стиснул автомат руками.
— Я ко всему готова, — сказала она. — И знаешь, Алеша… Даже там мне не было так страшно, как здесь.
— Но почему? — не выдержал я.
— Каждый может ткнуть в меня пальцем и сказать…
— Молчи! — воскликнул я.
— Спасибо, — прошептала она и неожиданно стремительно подошла ко мне, прикоснулась губами к моим губам. Я вздрогнул: мне почудилось, что это вовсе не Лелька целует меня.
Мы вернулись в землянку.
— Прощай, — сказала она. — И знаешь…
Я почувствовал, что в душе у нее идет борьба: сказать или не сказать?
Я терпеливо ждал.
— И знаешь, — повторила она волнуясь, — все-таки Лелька осталась Лелькой.
— Это правда? — спросил я.
— Не надо вопросов, Алеша.
— Нет, скажи, скажи, ты не можешь оставлять меня так… Ты не смеешь, слышишь?
— Я все сказала, — еще тише проговорила она. — Хочешь, повторю: Лелька осталась Лелькой.
Я стиснул ее в своих объятиях и стремительно вышел из землянки. Совсем рядом скрипнул снег, будто кто-то отпрянул от двери.
— Стой! — крикнул я. — Стрелять буду!
Эхо медленно вернуло мне обрывки слов. Я стремительно обогнул землянку. Там никого не было. «Начинаются галлюцинации», — испугался я и, пошатнувшись, прислонился спиной к дереву.
Небо стало совсем черным, непроницаемым. До рассвета было еще далеко.
Как же так? — думал я, стараясь разобраться в путанице мыслей, отделить истину от всего наносного. Значит, она приехала на заставу с заданием остаться у немцев, если начнется война. Но откровенно об этом сказать не может. И слова «Лелька осталась Лелькой» заменяют то, чего она не имеет права сказать. Но почему ее в таком случае отправляют под конвоем к Максу? Чтобы никто не мог догадаться? Она — разведчица? А если все эти намеки — просто желание выглядеть в моих глазах лучше, чем она есть на самом деле? И можно ли верить ей? Можно ли? «Никому нельзя верить, и весь разговор!» — вспомнились мне слова Антона.
И вдруг мне стало страшно при мысли о том, что эти слова победят меня.
15
Площадку для посадки самолета мы готовили ночью. Нужно было обеспечить полную конспирацию. В противном случае Макс пообещал поснимать нам головы. Да мы и сами понимали, какой урон понесли бы партизаны, потеряв самолет.
Работа была трудная. Мы расчищали тяжелый, разбухший от влаги снег, рубили кустарник, а потом, прицепив за постромки огромное бревно, впрягли двух лошадей и этим нехитрым, малопроизводительным способом разравнивали посадочную полосу. Когда все было готово, сложили большие кучи сухих веток для сигнальных костров.
Управились лишь к утру.
Я рвался в расположение лагеря, забыв об усталости, не теряя надежды, что Антон поручит мне сопровождать Лельку к самолету. Тогда появится возможность поговорить с ней еще раз. Но оказалось, что у него были другие намерения.
— Останешься в оцеплении, — приказал он. — Старший — Федор. Задача — ни одна живая душа не должна проникнуть в зону посадочной площадки.
И тут же добавил:
— Что поделаешь? Людей раз-два — и обчелся.
Рассветало, начало подмораживать. Антон поглубже натянул шапку из заячьего меха — подарок Федора — и пошел к саням, сутулый, неприкаянный и жалкий.
У саней он постоял, не решаясь сесть, и вдруг скорым, по нетвердым шагом вернулся ко мне.
— Алексей, — он давно так не называл меня. — Ты не думай… Правда — она жестокая. Она загрызть может. А щадить нельзя. Ни сердце, ни душу. Мы с тобой что? Меня не будет, тебя не будет, а государство наше будет, жизнь будет.
— Это верно, — сказал я, все еще толком не понимая, к чему он клонит. — Только я человеком родился, а не муравьем. А насчет правды — так она у тебя своя, снегиревская. Слов нет, ты и жизнь отдашь за нашу победу. Только от твоей правды она горчить будет, да еще как!
— Вот ты как обо мне… — в раздумье проговорил он, глядя мимо. — А ты читал товарища Сталина? — проникновенно спросил он, и брови его судорожно слились в одну линию.
Антон и раньше в упор ставил этот вопрос всем, кто в чем-то сомневался или не разделял его точку зрения. Он знал, как магически действует такой вопрос. Но, как и всегда, он задавал его обособленно от всего, о чем вел речь, не заботясь о логической последовательности своих мыслей.
— Товарища Сталина я читал. Он пишет, что человека надо выращивать, как садовник выращивает дерево. А ты Некипелова…
— Ты мне и Некипелова навесил? — ожесточенно подхватил он. — А я бдительность выше всего ставлю. Вот приведи он тогда немцев к мосту? Каюк нашему отряду. Ты за Рудольфа вступился? Так цыплят, браток, по осени считают. Капиталистическое окружение еще и не такие коники выбрасывает. Затаится такой Рудольф, своим до самых печенок прикинется, а потом нож в спину — и точка. А про эту, — с ударением произнес он, — и говорить нечего. Немецкая подстилка…
— Убью! — взревел я.
— Убей, — на его сумрачном лице появилось странное, отрешенное выражение. — Стреляй, Лешка, ты меня спас, ты меня и на тот свет имеешь право списать. А то, — он неожиданно старчески сморщился, и мне показалось, что глаза его подернулись влажным туманом, — в бою пуля не берет, и весь разговор. Как заколдованный…
И он, втянув голову в плечи, пошел к саням.
Странное впечатление произвели на меня слова Антона. Они вызывали досаду и своей незавершенностью, и тем, что он, как мне казалось, вернулся ко мне, чтобы сказать совсем не то, что сказал, чтобы оправдать свою жестокость и, может, даже в какой-то степени раскаяться.
И то, что он так и не раскаялся, и то, что оставил меня в оцеплении, чтобы я не смог сопровождать Лельку, — все это вызвало во мне желание продолжить с ним разговор начистоту. Но я обязан был подчиниться приказу, решив, что, вернувшись в отряд, не смогу промолчать, как это бывало раньше, ничем не смогу утихомирить свое возмущение.
Да, я возвращусь в сторожку, когда Лелька уже улетит. Самолет исчезнет, растворится в ночи, и вместе с ним исчезнет, может быть, навсегда Лелька.
Что ж, тем с большим сознанием своей правоты я швырну в лицо Антона беспощадные слова:
— Ты знаешь, кто ты?.. С тобой страшно жить под одной крышей! Под одним небом!
День прошел в нетерпеливом ожидании ночи. Мы проголодались, намерзлись. Одежда наша никак не подходила для наступивших холодов. О валенках приходилось только мечтать, обладатели поношенных телогреек или солдатских шинелей типа «б/у» вызывали острую зависть у тех, кто кутался в старую куртку или в кусок байкового одеяла. Все с надеждой ждали самолет: Макс обещал подкинуть нам обмундирование, взрывчатку, боеприпасы и продукты.
Время тянулось медленно. Неожиданно ко мне подошел Федор. Я обрадовался: появилась возможность поговорить, согреться крепким словом, горькой шуткой. Федор держался молодцом, он весь сиял, будто в предвидении чего-то радостного.
Со мной же своей радостью не делился. Спросив, не хочу ли я закурить, и получив отрицательный ответ, он вдруг дружеским, доверительным тоном спросил:
— Хороша небось рыжуха-то?
И не успел я очухаться от этого вопроса, не успел подумать, что ему ответить, как он зашагал дальше — весело и уверенно.
Я не мог оставаться в одиночестве и пошел к Волчанскому. Южанин, степняк, он люто ненавидел зиму и чертыхался, если кто-либо из бойцов расхваливал леса. Он не мог без дрожи смотреть, как северяне, считавшие здешние морозы детскими, умываются снегом.