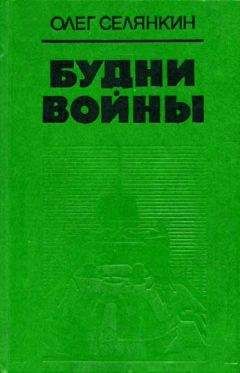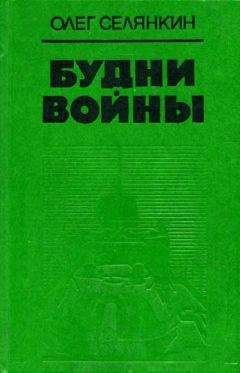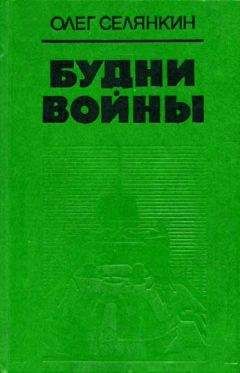Олег Селянкин - Будни войны
Однако Вадим Сергеевич еще ничего, он держится получше, чем Эдуард Владимирович, что даже очень логично: тот и старше значительно (в прошлом году ему исполнилось целых пятьдесят пять лет), и за всю жизнь (он сам признался в этом!) ни единого раза физзарядки — хотя бы частично! — не проделал. Иными словами, в нем душа вообще чуть держится…
Почему о них так подробно сейчас начала рассказывать? Они очень обижаются, если кто-то путает или перевирает их имена. Особенно обидчив Эдуард Владимирович. Из-за возраста и воспитания, вероятно (он из дореволюционных интеллигентов). А живут они вместе. Уже почти месяц. Так что, дорогой папочка, дверь нам любой из них открыть может.
Между прочим, папа, ты, наверное, уже догадался, почему одинокие люди сейчас стараются жить вместе с кем-то? Например, она, Полина, — с Викторией, а Вадим Сергеевич — с Эдуардом Владимировичем? Говоришь, нет времени забивать голову чепухой… К твоему сведению, папа, это вовсе не чепуха, а суровая жизненная необходимость! Во-первых, что бы ученые ни говорили, но чем больше людей в комнате, тем там теплее. Во-вторых, сосед или соседка всегда помогут, если заболеешь или какая другая беда вдруг на тебе споткнется. В-третьих… В-третьих…
Так и не придумав того, что могло бы достойно прозвучать «в-третьих», Полина неожиданно выдала тоном начальника, все основательно обдумавшего и убежденного, что только так и надо поступить, как диктует она:
— Да, папа, очень прошу тебя, как только придем, сразу и поговори с ними серьезно. О том, чтобы они немедленно начали подкармливать себя. За счет того, что им поручено охранять… Конечно, пусть едят лишь ровно столько, чтобы жизнь не угасла.
Так вот зачем ты потащила меня с собой! Хочешь, чтобы я своим авторитетом фронтовика заставил честных людей пойти против своей совести, толкнул их на преступление?!
Не повернул обратно лишь потому, что мгновенно решил: прогулка по свежему воздуху Полине очень даже полезна, а что оказать при встрече тем героям — это он сам придумает, благо время на раздумье еще есть; вспомнив, что дочь ждет ребенка, сдержал и резкие слова, которые уже были готовы обрушиться на нее. Только потому и промямлил, пытаясь выиграть время, чтобы придумать что-нибудь такое, что поможет более или менее тактично уклониться от поручения, против которого душа взбунтовалась сразу и бесповоротно:
— Как же их уговаривать, если…
— А ты просто прикажи им. Не уговаривай, а прикажи. От имени своих бойцов, доблестно защищающих Ленинград, прикажи.
Неужели ты, Полина, действительно не понимаешь, что толкаешь отца на подлый поступок? Да и должна бы ты знать, что приказать, конечно, любому человеку и что угодно можно. Даже луну с неба сорвать и прибить к двери чулана. Видать, тебе, доченька, еще ни разу не приходило в голову, что выслушает иной разумный человек подобное приказание, посмотрит с уничтожающим презрением на отдавшего его и скажет от чистого сердца: «Иди-ка ты…»
Об этом капитан Исаев только подумал, буркнул же:
— Чего распетушилась-то? Или забыла, что оно (понимай — дите) все твои психозы, в себя запросто впитать может?
Полина благодарно взглянула на него, решительно вошла в гулкий подъезд дома. Здесь опять вдруг остановилась и сказала, почему-то стуча пальцем в грудь отца:
— Между прочим, у Эдуарда Владимировича есть слова-паразиты: «милостивый государь» или «милостивая государыня». Чем больше волнуется, тем чаще вставляет их в свою речь. Не так, как я сейчас оказала, а слитно, кое-что проглатывая. «Милгосдарь», — вот что у него получается. К тому говорю, чтобы ты сразу понимать его стал.
— Эта ли присказка сейчас самое главное? — пожав плечами, спросил он.
Потом они долго поднимались по лестнице, поднимались на пятый этаж, отдыхая на каждой площадке.
Едва Полина несколько раз дернула железный прут, внутри квартиры проволокой соединенный со звонком, дверь широко распахнулась; словно хозяина этого жилья нисколько не волновало, что последнее тепло может немедленно выскользнуть в подъезд, где от стен на версту разило холодом сродни могильному.
— А, Полинушка, — несколько разочарованно сказал мужчина, открывший дверь. Был он в годах, но держался подчеркнуто прямо, смотрел на капитана Исаева так спокойно и доброжелательно, будто был не только давно знаком с ним, но и дружил, словно именно его прихода и ждал с нетерпением, стоя под дверью своей квартиры. — Прошу входить, милгосдари, — сказал он, поклонившись только головой, и поспешно добавил, заметив, что капитан Исаев потянулся пальцами к пуговице шинели: — А вот верхнюю одежду снимать не рекомендую. Даже очень настойчиво не рекомендую.
В квартире, если судить по фасону и количеству дверей, выходивших в просторную прихожую, кроме кухни, было минимум четыре комнаты. Однако Полина привычно направилась к кухне, дверь которой была прикрыта особенно плотно. Но Эдуард Владимирович решительно преградил путь туда, он рукой указал на самую отдаленную от нее дверь. И они, повинуясь жесту его руки, вошли не в комнату, а скорее — в клетушку, где, безжалостно тесня друг друга, еле-еле смогли разместиться узкая, солдатского образца кровать-койка с тумбочкой у изголовья, венский стул, родившийся, похоже, в середине прошлого века, и какое-то подобие гардероба уже без дверок и полочки, на которой еще год назад обязательно лежал головной убор хозяина этой комнатушки. Летом это была, разумеется, шапка-ушанка. А вот что на хранении лежало там зимой? Шляпа или кепка? Пожалуй, она, кепочка: до войны именно ее больше, чем что-либо иное, любили многие интеллигенты старой закваски. Или только притворялись любящими, а сами просто очень ценили ее за то, что она помогала затеряться в уличной толпе?
Эдуард Владимирович перехватил несколько иронический взгляд капитана Исаева, неспешно обшаривавший комнатушку, тщательно ощупывающий все то, что было в ней, и сказал:
— Это комнатка нашего старшего сына — Кеши. — Помолчал и добавил с искренней грустью: — И вообще вся эта квартира еще недавно была только нашей.
Вот теперь капитан Исаев и разгадал, что поражало его здесь, что волновало и даже тревожило душу: не жилым помещением пахла эта комнатушка, в ней стойко держался въедливый запах кладовки, которую давно не проветривали, в которой не то чтобы вещи перебрать, дать им понежиться в солнечных лучах, но и самую обыкновенную пыль смахнуть остерегались.
Интересно, почему сюда, а не в ту комнату, где они живут с Вадимом Сергеевичем, или хотя бы в кухню, привел их Эдуард Владимирович?..
И еще он понял, что все то молодечество, с каким Эдуард Владимирович встретил их, было лишь маскировкой собственной физической слабости и некоторой душевной растерянности. Понял это — захотелось сказать что-нибудь ободряющее, но хозяин квартиры широким жестом руки уже показывал им с Полиной на койку, предлагая сесть. Они беспрекословно подчинились. Вслед за ними сел и Эдуард Владимирович. Вернее, будто боясь промахнуться, осторожно опустился на венский стул, робко жавшийся к боковой стенке гардероба, к той, которая давненько и основательно была исцарапана кошкой.
А Полине не терпится, она вот-вот выпалит свою идею, которая капитану Исаеву сейчас казалась и вовсе дичайшей. Чтобы этого не случилось, он и спросил, сняв Шапку и положив ее рядом с собой:
— Извините, конечно, если мои вопросы прозвучат нескромно, однако сейчас-то где ваши? Эвакуировались куда? С организацией или в одиночном порядке?
Эдуард Владимирович какое-то время молчал. Так, что подумалось: а услышал ли он вопросы. Потом вдруг твердо глянул в глаза капитана Исаева и ответил:
— Спрашиваете, милгосдарь, где мои сейчас? Что ж, вопрос, так оказать, в духе времени… Наш старший сын — Иннокентий — после окончания военного училища уже командовал танковой ротой. Он очень долго и настойчиво упрашивал свое командование, чтобы оно отпустило его в Испанию. Нет, нет, мы с женой никогда не осуждали Кешу за это!.. Потом нам вдруг сообщили, что он награжден орденом Красной Звезды. Посмертно награжден… А младшенький — Тимоша — смертью храбрых пал в декабре тридцать девятого. Когда, наполнив карманы и пазуху взрывчаткой, полз к одному из многих дотов в линии финских укреплений…
Невольно пришло в голову, что зря недавно думал, будто еще год назад демократическая кепочка коротала зиму в этом гардеробе. Стыдно стало за эти мысли, захотелось встать и дружески обнять поникшие плечи этого старика (а старика ли?), но тот уже продолжил после короткой, тягостной для всех, паузы, продолжил бесцветным голосом:
— Мудрено ли, милгосдарь, что после всего этого наша мама начала часто болеть, а потом и вообще чахнуть… Я похоронил ее в апреле этого года.
Где-то близехонько с предельной скорострельностью, но без намека на истеричность бьют зенитки, где-то вовсе рядом взахлеб рокочут счетверенные пулеметы. А вот все это на какие-то считанные мгновения заглушили раскатистые взрывы бомб.