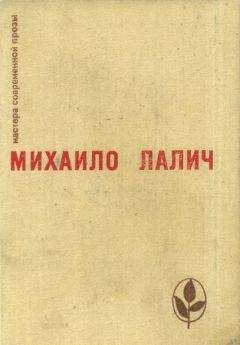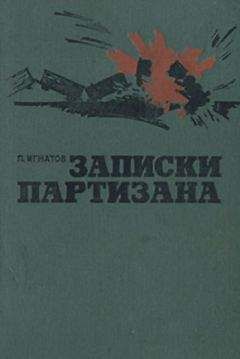Михаило Лалич - Облава
— Когда будет ясно, — сказал Момо, — я не стану их здесь поджидать. Вовсе не желаю, чтобы меня вытаскивали, как облезлую куницу из норы, а потом хвастали, что в яме под землей поймали.
— Рано об этом говорить, — сказал Качак. — Еще два часа до рассвета.
— Ладно, я хочу, чтобы об этом знали наперед, и пусть меня никто не удерживает в этой поганой дыре! Если они придут, я хочу драться, а для этого нужен простор, хотя бы такой, чтобы можно было размахнуться, руки в ход пустить.
— А мне — ноги, — заметил Гавро.
Все рассмеялись, и напряжение ослабло. Покуда они нанизывали шутку на шутку, страх отступил. Поблекла игра воображения, и вещи приняли свои реальные размеры. Если надвигается облава, то облава это не первая и не последняя, вся жизнь — вечная облава. Ни для кого из них это не первая облава, все они пережили десяток, а то и больше таких облав. Можно потерять жизнь, но это не такая уж большая потеря. Они прожили уже по двадцать лет, а старый Мафусаил Байо без трех тридцать, словом, достаточно пожили и убедились: жизнь ничего особенного собой не представляет, один собачий брех, сон и пустота.
ОДУРАЧЕННОЕ ВОЙСКО
Ночью, без песен, провожаемые от села до села лишь собачьим лаем, два батальона лимских четников перешли Лим и поднялись на плоскогорье Грабеж. Первый батальон — итальянская милиция в желтых ботинках и длинных плащах, предводительствуемая здоровенным Рико Гиздичем, — разместился в комнатах и коридорах бывшей жандармской заставы в неблагонадежном селе Любе; второй батальон — разношерстная шушера, бывшие нейтралитетчики и даже родичи партизан и сочувствующие им, мобилизованные по селам и поставленные под команду Алексы Брадарича, — остановился на ночлег в классах начальной школы в Доле. Людям выдали солому для постелей и топливо, угостили водкой, и после недолгой суетни, устав от дороги и томительного ожидания, они заснули, несмотря на тяжелый смрад мокрых чулок. Только командиры да взводные остались резаться в карты и ссориться из-за денег, — так и встретили рассвет за картами.
Собранные по тайному приказу и незаметно переброшенные сюда батальоны были убеждены, что идут на турок, на самом же деле их привели сюда скорее в наказание, чем по необходимости. Воевода Юзбашич хотел напомнить людям о неприятных обязанностях военной профессии, разлучить их с женами, пеленками и домашним духом, встряхнуть, отомстить за отвиливания и уклонения от службы, за бесконечную симуляцию, которая, вопреки строжайшим запретам, неизменно подтверждалась врачебными справками. Одновременно он хотел щелкнуть по носу Рико Гиздича за высокомерие, питаемое личными связями с итальянским Овра[35] и военными властями, а также одернуть Алексу Брадарича за его предумышленную медлительность и нездоровое заискивание перед народом. Приволок он их на Грабеж, почти к самой мусульманской границе для того, чтобы показать, как простой командир роты, обыкновенный крестьянин, один, без чьей-либо помощи разделается со всем, никому при этом не уступив ни крупицы своей славы. Воевода Юзбашич рассчитывал доказать, что, если понадобится, он может обойтись и без их присутствия.
Отряд Филиппа Бекича, которому предназначалось сыграть главную роль в боевых действиях, был составлен из милиционеров, отборных четников Грабежа и усилен летучим отрядом из штаба Юзбашича под командой жандармского унтер-офицера Бедевича. В три часа ночи рота должна была собраться возле школы в Ластоваце. Часть людей, живущих в Тамнике, была вызвана раньше — под вечер можно было видеть, как люди с винтовками спешат по крутым тропам из долины Караталих в Грабеж; в сущности, это была уловка: если партизаны или их многочисленные осведомители заметят какие-то приготовления, то пусть думают, что удар направлен в другую сторону. Прочие люди Бекича из Ластоваца, Старчева, Дола и Побрджа ночевали дома, встали спозаранку невыспавшиеся, разбудили по дороге собак и пастухов и прибыли на место вовремя, в том числе и собиравшийся вовсе не ходить Пашко Попович.
Филипп Бекич, который по особым причинам временно оставил свой дом в Тамнике и вместе с женой и взрослыми дочерьми переселился в крепкий каменный дом — «штаб» — в Ластоваце, прибыл еще раньше, разбудил тамничан, упрекнул их в предательстве и приказал быть начеку. Потом дал распоряжения командирам взводов и, призвав бога на помощь, перекрестился над стаканом ракии и пожелал всем счастливого пути. Осунувшийся от беготни, разработки планов операции, забот и бессонницы, обмотав голову длинной шелковой шалью, он позвал наконец Мило Доламича, Тодора Ставора, Лазара Саблича и Ново Логоваца, которых за два дня до похода посылал на разведку в необъятные лесные просторы Орвана, и двинулся во главе этой четверки к Старчеву и лежащей под ним долине. Перед отходом ему показалось, что лицо у Ставора потемнело, а Доламич побледнел и что оба они, скрестив взгляды, обвиняют друг друга в измене. «Что-то знают и скрывают от меня, — подумал он, — знают больше, чем все мы, и поклялись друг другу не говорить, а сейчас допытываются, кто не выдержал и выдал».
Всю эту ночь Филипп Бекич не сомкнул глаз, хоть и улегся засветло, выпив литр горячей ракии, чтобы заснуть и избавиться от простуды. Хоть он и пропотел, но не вылечился — табачный дым все еще вызывал отвращение. Чувства болезненно обострились, он взвинчен и не уверен в себе. Ему кажется, что скрип снега под ногами всколыхнул тишину до горизонта, до самого Клечья и Дервишева ночевья, где, зарывшись в землянке, сидит коммунист Гавро Бекич и насмехается над ним. «Если не слышит нас, услышит собак. Нас выдаст собачий лай. Надо было приказать поубивать собак. И Тодора Ставора надо убить: лгун он. Кто бы подумал, что этот болван попытается меня обмануть! Если уж он таков, то чего стоят другие, которых я веду? Конечно, все люди курвы и лжецы, впрочем, иначе их бы и не существовало. Народ вечно что-то таит, часто и сам не зная зачем; главное для него — обмануть, даже себе во вред. Еще можно было понять, когда он укрывал нас и обманывал красных; но вот почему сейчас он обманывает нас, а красных прячет — прячет, как беременная девка пузо, и не одного и не двух, а шестьдесят — этого я не могу взять в толк. Черт его знает — ради забавы, или по привычке, или еще почему? Скорее всего по темноте или врожденной глупости. Не знает это стадо баранов, что его ждет и что ему потребуется в будущем, и потому на всякий случай хочет сохранить разные семена. Держи карман, сохранит! Если найдется человек, знающий, чего он хочет, да возьмет за горло эту брюхатую девку, этот народ, да без всякого милосердия полоснет плетью по мягкому месту, шлюха скажет, кого прячет в своем пузе и почему!..»
В Старчеве, когда они проходили мимо какого-то огороженного сада, по ту сторону забора в тумане перед ним мелькнула яблоневая ветка. Бекич остановился пораженный, ему показалось, что ветка вся в цвету. В следующее мгновение ему пришла в голову странная мысль, что этот обман зрения, насколько он помнит, недобрая примета: тот, кто увидел прежде времени цветение там, где его нет, теряет право увидеть настоящее цветение. «Это означает, — подытожил он мысленно, — что я либо не доживу до весны, либо ослепну. Но почему? — спросил он неведомого пророка в себе. — Кого мне бояться после того, как я перебью коммунистов и первым Гавро? Зобатые турки ничего не могут мне сделать, да и не посмеют…»
Подумав о турках, он вспомнил вонь прогорклого масла и несвежих продуктов, которыми они питаются. Волна зловонья поднялась в нем самом и подкатила к горлу. Его вдруг одолела мутившая всю ночь и все нараставшая по дороге тошнота. Пошатываясь, он подошел к плетню, схватился руками за два кола и, согнувшись, начал блевать.
Старшина Бедевич, командир летучего отряда, первым подскочил помочь ему, выказав при этом больше заботливости и внимания, чем можно было от него ожидать. То ласково, то по-родственному ворчливо он уговаривал его тотчас вернуться домой и лечь в постель. Все, о чем говорил старшина, было приукрашено и преувеличено:
— Дом отличный, постель мягкая, болезнь опасная. Зачем мучиться, — уговаривал он, — если так тяжело болен? И зачем терять здоровье, которого потом ничем и никогда не поправишь, в то время как столько здоровых и менее ценных людей могут его заменить? То, что вы делаете, — продолжал он, — не входит в обязанности командира и будущего воеводы. Нам надо беречь такие драгоценные жизни, любимые народом люди не должны даже приближаться к партизанскому логову. От офицера требуется, — Бедевич начал уже поучать, — составить план нападения и отдать приказ, а там уж, дело известное, выполнять его должен тот, кто ничего другого не знает и не умеет, чье это ремесло. Я жандарм, и мой отряд для того и находится здесь, чтобы довести дело до конца…