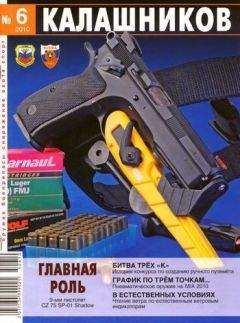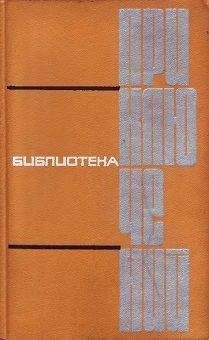Петр Игнатов - Голубые солдаты
— Эй, вы куды йдэтэ?
Мы оглянулись. К нам, будто выросши из земли, приближался низкорослый мужчина в вылинявшем, немецком мундире, с карабином под рукой. Его черные глаза глядели на нас из-под мохнатых бровей подозрительно и настороженно.
— Полицай! — буркнул мне Бодюков. — Стукнуть бы его, гада!
— Молчок! — шепнул я. — И не хмуриться!
Кроме складных ножей, у нас не было никакого оружия, но на самый худой конец и они помогли бы нам избавиться от этого полицая: знать бы только наверняка, что он один.
Полицай подошел к нам, снова спросил:
— Куды йдэтэ?
— В Балаклею! — ответил я. — К коменданту.
— Звидкиля?
— Из Купянска.
— Хто будэтэ?
— Слесаря-водопроводчики.
Полицай пристально посмотрел на меня, затем на Бодюкова и потребовал наши «бумажки».
— Документы? — переспросил я.
— Эге ж, докумэнты и пропуск.
Мы предъявили свои документы борщевскому блюстителю «нового порядка». Он начал вертеть их у себя перед глазами, а мы выжидательно смотрели на него. Бодюков нетерпеливо дергал пуговицу пиджака, и я чувствовал, с каким трудом он сдерживает желание ударом своего тяжелого кулака свернуть скулы полицаю. А тот не торопился с проверкой «бумажек» — продолжал вертеть их и так и этак.
— Да ты, я вижу, неграмотный, — бросил насмешливо Бодюков. — Давай прочитаю, что там написано.
Полицай окрысился:
— Нэ гавкай! Бач, якый грамотный найшовся… Я вжэ трычи прочив всэ… А будэтэ гавкаты, то до старосты видвэду.
«Только этого еще не хватало!» — подумал я и, чтобы утихомирить полицая, сказал ему обиженным тоном:
— Ну чего ты расходился? Шуток не понимаешь? Мы же знаем, что немцы не берут на службу в полицию неграмотных. Жаль, времени у нас мало, а то выпили бы с тобой.
Бодюков, видимо поняв мою тактику, вздохнул.
— Да, не мешало бы промочить сейчас горло первачком.
— Нэ можно мэни, — уже миролюбивее покосился на него полицай. — На посту я зараз.
— Понимаю, служба, — кивнул Бодюков. — Ну ничего, будешь в Купянске, заходи к нам. Тогда тяпнем вволю. Мы люди гостеприимные, не то что ты.
Полицай совсем размягчился. Вернув нам документы, спросил:
— А дэ ж вас шукаты там, у Купянску?
— Вот чудак? — воскликнул Бодюков, — В паспортах указаны наши адреса. Ты же читал.
— Эге ж, читав.
— Ну вот и приходи по адресу.
На том и закончилась наша встреча с полицаем. Выйдя из Борщевки, где нас больше никто не останавливал, мы зашагали к Балаклее. Километрах в трех от города перед нашими глазами предстала такая картина: в придорожном кювете лежал опрокинувшийся набок воз с сеном, возле которого, сильно прихрамывая и ругаясь, суетился пожилой немецкий солдат. Видимо, задремав, немец выпустил вожжи, и лошади свернули к кювету, поросшему высокой сочной травой. Так оно было или иначе, но воз перевернулся, и теперь солдат никак не мог поставить его на колеса.
Немец еще издали заметил нас, крикнул;
— Эй, рус, ходи помогаль! Давай бистро, шнель!
Мы подошли к нему.
— Да, плохи дела! — сказал я с напускным сочувствием.
— Я, я… зэр шлехт! — закивал солдат и ткнул кнутом в сторону распряженных лошадей, пасшихся в кювете. — Ди дрэк пфэрдэ, доннэрвэттзр!..[9]
Немало пришлось потрудиться нам втроем, прежде чем воз очутился на дороге. И вот сено снова погружено, крепко увязано. Солдат запряг лошадей, дал нам по сигарете и только теперь поинтересовался, куда мы держим путь.
— В город! — ответил Бодюков.
— О, нах штадт![10] — воскликнул немец и похлопал меня по плечу. — Ви хорошо помогали. Я буду возить вас нах горот!
Мы, разумеется, не отказались. Въехать в город в обществе хотя бы самого заурядного представителя «высшей расы» было прямо-таки недурно. Немец оказался очень словоохотливым и болтал без умолку, пользуясь малопонятной нам мешаниной немецкого и страшно исковерканного русского. Но мы терпеливо слушали его словоизвержение, изредка поддакивали ему и даже посмеивались, когда он рассказывал нечто такое, что смешило его самого. Надо полагать, гитлеровцы, дежурившие у контрольного пункта на окраине города, хорошо знали нашего возницу, потому что они пропустили беспрепятственно и его и нас вместе с ним.
Так добрались мы наконец до Балаклеи.
Город был сильно разрушен. Вдоль улиц стояли обгоревшие развалины многих домов. На мостовых и тротуарах зияли воронки от бомб. Редкие прохожие, попадавшиеся нам навстречу, жались поближе к руинам, испуганно озираясь по сторонам, будто выискивая глазами, куда бы поскорее скрыться. На облике каждого лежала печать горькой и жестокой неволи.
Чтобы попасть в улицу, где находилась явочная квартира, нам нужно было пересечь городскую площадь.
Тут нас остановил патруль: четыре солдата и офицер. Мы, разумеется, держались браво, с видом людей, которым власть оккупантов пришлась по душе.
— Куда идете? — спросил офицер по-русски.
— В комендатуру, — ответил я.
— Ваши пропуска и паспорта.
Мы предъявили документы. Внимательно просмотрев их, офицер указал рукой в одну из улиц:
— Это там. Улица Гарри Круппа. Недалеко от угла…
Улица, в которую мы вошли, называлась до войны Советской. Кое-где на домах еще остались таблички с этим названием. Гитлеровцы переименовали ее в улицу немецкого короля пушек. Увидев металлическую табличку с именем Круппа, приколоченную к обгоревшей стене углового дома, Бодюков сказал:
— А ведь это символично. Советская улица была цветущей, счастливой. Теперь же она стала улицей горя, слез и руин. Такой ее сделал Гитлер пушками Круппа.
— Ничего, Боря, это ненадолго, — убежденно ответил я. — Название «Советская» вернется сюда, и улица снова станет счастливой.
Бодюков остановился, медленно обвел взглядом руины на противоположной стороне улицы.
Я замедлил шаг, оглянулся.
— Ты чего?
— Хочу запомнить все, — отозвался Бодюков. — Этого нельзя ни забывать, ни прощать…
И вот наконец дом № 34, тот, который нам нужен. Входим во двор, стучимся с черного хода. Никто не отвечает. Оборачиваюсь лицом к Бодюкову, вижу, как настороженно сощурились его глаза. Вероятно, наши мысли совпадают. Что, если явка провалилась и Чашин арестован? Не следят ли за нами гестаповцы? И не ждет ли нас за дверью засада?
Бодюков выглядывает на улицу. Поблизости нет никого. В доме тишина.
Я стучу еще раз. Пять ударов, как предусмотрено паролем.
— Кто там? — долетает из-за двери женский голос.
— Водопроводчики! — отвечаю я.
Дверь открывается чуть-чуть, ровно настолько, насколько позволяет дверная цепочка. На нас изучающе смотрит невысокая женщина с седыми прядями в волосах.
— Владимир Сергеевич дома? — спрашиваю я шепотом.
— Дома, — отвечает женщина, — но он нездоров и не может выйти.
— Нас прислал Юрий Григорьевич, — сообщаю я.
— Из Одессы! — добавляет Бодюков.
Женщина торопливо снимает дверную цепочку, пропускает нас в маленькую прихожую и снова навешивает цепочку, запирает дверь на засов, затем ключом…
Из прохожей мы попали в довольно просторную комнату, светлую, прилично обставленную, с длинными тюлевыми гардинами на двух окнах, обращенных к улице.
— Присаживайтесь, товарищи! — сказала с приветливой улыбкой женщина. — Я жена Владимира Сергеевича. Мы очень опасались, как бы с вами не случилось чего.
— Как видите, все в порядке! — успокоил ее Бодюков.
В это время из соседней комнаты вышел высокий мужчина в светло-сером костюме. Его пышные волосы и острая бородка были тронуты сединой. Сквозь толстые стекла очков поблескивали большие добрые глаза.
Познакомились.
— Прошу ко мне в кабинет, — пригласил нас Чашин в ту комнату, из которой вышел, и сказал жене — А ты, Оленька, поставь чайку и приготовь что-нибудь перекусить гостям. Они ведь с дороги, проголодались, наверное, изрядно.
Этот интеллигентный, аккуратный и весьма предупредительный человек, говоривший мягким, проникновенным тенорком, не производил на меня впечатления подпольщика и тем более руководителя боевой подпольной группы. И все же это был именно тот человек, который, сумев завоевать доверие оккупантов своим лояльным отношением к «новому порядку», вел тайно непримиримую борьбу с ними. Никому из гитлеровцев даже в голову не приходило заподозрить его в каких-то связях с подпольщиками, и он, находясь все время на виду у оккупантов, почти под боком у комендатуры и гестапо, оставался неуловимым для врага. Нелегко бывает порой нам, разведчикам, но Чашину было куда труднее, причем постоянно.
Чашин принадлежал к числу тех скромных и храбрых людей, которые идут на подвиги не ради славы и не любят, когда говорят об их мужестве. Сродни ему была и его жена — Ольга Дмитриевна. Ведь она прекрасно знала, что ждет их в случае провала: гестапо, пытки и виселица на городской площади. Но ничто не выдавало в ней даже малейших признаков беспокойства или страха. Она по-матерински ласково улыбалась мне и Бодюкову, заботливо подкладывала на наши тарелки то жареную картошку, то фаршированный морковью перец, то кукурузные лепешки.