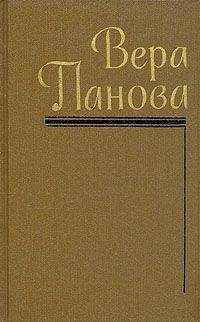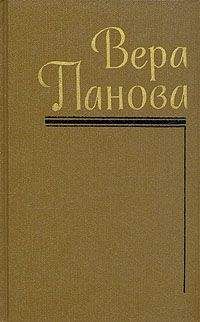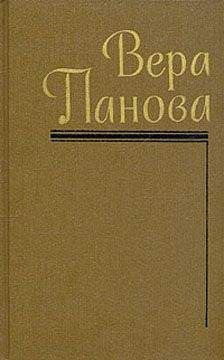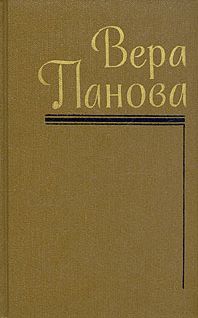Вера Панова - Спутники
Мужчины, годные к строевой службе, покинули поезд: их отзывали в действующую армию. Данилова не отозвали. Он помнил письмо, полученное из ЦК, и молчал.
Девушки стали записываться добровольцами в Красную Армию. Многие из них в поезде изучили винтовку и пулемет.
Данилов не удивился, когда в добровольцы записалась Лена Огородникова. Но когда увидел в пачке заявлений подпись толстой Ии, свистнул от удивления: ведь сидела же год назад в воронке, полумертвая от страха…
Он полюбил слушать, о чем говорят в поезде. Слушать ему стало нужнее, чем самому говорить.
Люди привыкли к тому, что комиссар подойдет, присядет рядом, молча, неумело скрутит козью ножку (он стал курить с недавнего времени), послушает минуты две, встанет и уйдет.
– Надоело ему все, – говорил Сухоедов. – И мы надоели, и разговоры наши надоели. Ты посмотри – он же молодой человек совсем, ему простор требуется для его дел.
– А кому не надоело? – спрашивали его.
Они ошибались. Они стали ему интереснее, чем раньше.
Говорила Юлия Дмитриевна Супругову, распуская какое-то вязанье и мотая шерсть в огромные клубки:
– Во всяком случае, мы их задержали. Вспомните Псков. Там наше сопротивление носило совсем другой характер. Вы помните? На наших глазах наши части отступали… Да, вы первый указали мне на это… А сейчас чувствуется, что мы выиграем это сражение. Видимо, здесь предел их маршу. Я представляю себе, что там делается на улицах и в домах…
В ее голосе слышалась досада, что ее там нет – на сталинградских улицах и в сталинградских домах…
Интереснее всех говорил Кравцов.
– А Давид, – рассказывал он Наде, – был сначала пастух. И отроком, подростком, убил великана Голиафа камнем из пращи.
– Из какой прыщи? – спрашивала Надя.
– Ну… рогатка, вот как мальчишки кидаются. За это евреи сделали его своим царем.
– Ца-рем? Разве у евреев были цари?
– Ух, какая дура, – вздыхал Кравцов. – Дальше таблицы умножения не знаешь ничего…
Молчали. Опять раздавался повествующий голос Кравцова:
– У них были знаменитые цари. Они были и цари, и пророки, и писатели, и судьи. Тыщи лет назад царь Давид такие написал слова, что по сей день жгут сердце. Он написал: «Оружием будет тебе истина». Ты это можешь понять? Не гаубица будет оружием, а истина. А сам убил Голиафа из пращи. И тем самым как бы признал и гаубицу, но в то же время указал: «Оружием тебе будет истина». Иными словами, без истины и гаубицей ни черта не возьмешь. И еще он сказал: «Селение твое мир». Не в войне найдем счастье, а в мире. А война – только путь к миру… Да что тебе говорить!
– У нас в училище, – говорила Надя, – один парень другому чуть глаз не выбил из рогатки…
Однажды в начале зимы санитарный поезд застрял на сутки под Москвой, в лабиринте окружной дороги. Рейс был порожний.
Данилов разрешил команде сходить в кино и сам пошел.
Кино помещалось в маленьком транспортном клубе, увешанном красными полотнищами с лозунгами, наполовину смытыми осенним дождем. В зале были по преимуществу мальчуганы. Они вели себя требовательно и бурно. Каждые десять минут поднимался страшный свист, топот и крики:
– Рамку, рамку-у!
Показывали военную хронику, потом художественный фильм из военной жизни. Герой – молодой парнишка, хорошенький, как на плакате, и такою же была его девушка. Они совершали подвиги, а потом девушка попала к фашистам в лапы и умерла, замученная палачами. Все понимали, что фашисты на экране не настоящие, но все это было такое сегодняшнее и близкое – и подвиги, и ненависть к фашистам, и хорошая девушка, отдающая жизнь за Родину, – что все смотрели картину с волнением. Вопли мальчишек: «Сапожник! Рамку!» достигли к концу сеанса наивысшего напряжения…
Когда вышли из кино, шел снег. Крупными медленными хлопьями падал он на пути. Заплаканные санитарки шли группами, горячо переговариваясь. Прошли мимо Данилова Юлия Дмитриевна и Фаина; Соболь догнал их, тонко закричал:
– Ах, витязь, то была Фаина! – и подцепил старшую сестру под руку.
Данилов всех пропустил вперед, пошел не торопясь, засунув руки в карманы шинели, подставив снежинкам лицо.
Какой ни смотришь фильм, какую ни читаешь книгу – везде любовь и любовь. Так ли это в жизни, обязательна ли любовь для каждого человека? Ведь вот – прожил же он без любви, а кто скажет, что плохо прожил? Каждый день был заполнен – безо всякой этой самой любви…
Когда-то он любил, любовь не удалась, он пересилил себя и обошелся без нее.
Таким вот пареньком он был, как этот на экране. Только не таким красивым и не таким сознательным.
А хорошая штука молодость. Оглянуться на нее радостно. Немного неловко, немного жалко… и все-таки радостно. Что ж! Он, зрелый человек, не отвечает за того паренька, каким он был четверть века назад.
У него уже три зуба вставных, и виски поседели. Лет шесть или семь уже, как не вынимал ее карточку из конверта…
Нескладно вел себя паренек. Не было ему удачи. Но спасибо ему за эти неловкие, горькие и радостные воспоминания.
Когда Данилову было пятнадцать лет, в деревне, где он родился и жил, основалась комсомольская ячейка.
Из города приехал на почтовой телеге худенький парнишка в огромных ботинках – «танках». Он собрал ребят и девушек в школе, ужасно долго и горячо говорил и потом стал записывать желающих в комсомол.
Данилов записался не столько по сознательности, сколько из желания поступить наперекор матерям. Матери собрались за дверью в сенях и оттуда выкликали своих детей: «Мишка! Танька! Сказано – домой», – кто шепотом, кто громко. Данилов гордился тем, что его матери за дверью нет. Придя домой, он сказал:
– А я комсомолец.
Мать сказала:
– На сход шел – хотя б рубаху новую надел; поди, осудил тебя городской человек.
И больше никогда не вмешивалась в его дела, так же как отец (кроме одного случая). Они верили, что своей честной жизнью они подали сыну хороший пример и сын никогда не опорочит ни себя, ни их, какой бы дорогой ни пошел.
В доме у них было принято хорошее обращение с людьми, разговор немногословный и негромкий и постоянный труд. Данилов не запомнил, чтобы отец и мать когда-нибудь пьянствовали, ссорились, бездельничали. У отца была маленькая кузня. Он был набожен, но если даже в первый день пасхи к нему приводили лошадь подковать, он надевал свой черный фартук и шел в кузню.
– Бог на работу не обижается, – говорил он.
Он умел плотничать, слесарничать, шорничать, плести рыболовные сети и был из лучших косарей в волости. В прежнее время нанимался косить к господам; и в старости он надевал в сенокос белую рубаху, брил щеки, точил косу и шел в совхоз наниматься на косьбу: он был артистом в этом деле и любил, чтобы им любовались.
Данилов больше половины жизни прожил вдали от родителей и со стариком виделся очень редко. Но в нем навсегда осталась страсть к работе и желание делать эту работу так, чтобы почтенные люди сказали: «Ай, молодец!» Драгоценное отцовское наследство…
Мать учила его варить обед, латать чулки и стирать белье.
– В солдатчине пригодится! – говорила она.
Когда он был совсем маленький, ока иногда ласкала его, потом перестала. Он не помнил ее поцелуев, не справлял поминок, когда она умерла, но навеки сохранил благоговейное уважение к ее памяти.
Пришла революция. Пришли новые слова и понятия. Он стал комсомольцем. Но жизнь его мало изменилась: деревня была за девяносто верст от железной дороги.
По почте на ячейку приходили книжки. Ребята читали их, но не очень понимали. Объяснить было некому. Иногда приезжал тот худенький товарищ из губкома, теперь у него уже росли усы. Он делал доклад, кое-что после этого становилось яснее, но не все. По воскресеньям комсомольцы – их было четверо – надевали чистые рубахи и шли к обедне. Они шли не молиться, а посмотреть людей. Больше людей посмотреть было негде. Один раз Данилов был шафером на свадьбе и держал венец над головой жениха. Жених тоже был комсомолец, но венчался в церкви, потому что иначе невеста ни за что не соглашалась.
Все это переменилось, когда старая наставница (учительница) ушла на пенсию и на ее место пришла новая.
Новую звали Фаиной. Она была совсем молодая – едва за двадцать лет. Красивая, с толстой тугой косой, положенной высоким венком вокруг головы.
– Черт те что у вас творится, – сказала она комсомольцам. – Я бы у вас комсомольские билеты давно отобрала.
Она потребовала, чтобы сельсовет поставил новую избу около школы. Сельсовет не послушался. Она съездила в волость, и волость прислала предписание – поставить избу и в ней основать к л у б. Из волости Фаина привезла два ящика книг и стала по вечерам читать вслух в школе.
Сначала на чтения приходили только ученики, потом стали приходить взрослые и даже совсем старые. Им нравилось, как читает наставница. Они такого чтения никогда не слышали. Она начинала читать негромко, пригнувшись у керосиновой лампы, уютно ссутулившись под накинутым на плечи серым платком. Читала размеренно и как бы даже равнодушно. Но вскоре чтение зажигало ее. Лицо ее разгоралось, блестели под полуопущенными ресницами молодые глаза. Взволнованная, читала она то громко, то почти шепотом, скидывала платок, становилась коленями на стул, обеими руками подпирала румяные щеки. Случалось – когда слушатели вздыхали, опечаленные печалями чужой судьбы, – у нее у самой светлая слеза спускалась с ресниц на щеку и, сверкнув, падала на раскрытую книгу.