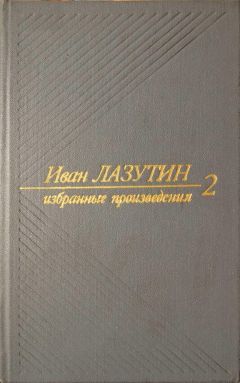Владислав Бахревский - Голубые луга
Митрофан Митрофаныч ночевать не остался, но на лисенка пошел поглядеть. Лисенок жил теперь под крыльцом, во дворе. Здесь настелили соломы. Было тепло.
— Ну, мать, — сказал отец, проводив ночного гостя, — теперь с хлебом. До весны хватит… А вы, ребятишки, готовьтесь к путешествию. В воскресенье едем к Митрофану Митрофанычу в гости.
Глава одиннадцатая
По наезженной дороге сани легки, лошадь потому бежит, что бежится. В санках тесно, но тепло, весело. Отец на облучке, мама и тетя Люся, завернувшись в тулуп, на сиденье, в ногах у них Федя, Феликс и Милка. По самую шею в сене, задавленные старой медвежьей шкурой.
О санки! Если ни о чем не думать, услышишь легкий посвист счастливо отжитых секунд…
Поглядеть на ездоков сбегаются сугробы, кусты, деревья. Деревья обступают, как хоровод: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай». Приподскочат на цыпочки, углядят и тотчас и отпрянут, закружатся, уплывая. А добежав до своего места, и замрут, прижмутся друг к дружке — сироты сиротами, заглядятся, заглядятся вослед. И вот уже позади синё и все — даль: ни деревьев, ни сугробов, ни деревень. Одна неведомая, хоть ты сам только что оттуда, синяя даль. А ты все вперед, все мчишься. Сани с ухаба на ухаб лётом, ныряет небо, земля поворачивается, поворачивается, а все на месте, но видно, что она круглая.
Приехали в сосновый бор. Солнца всю дорогу не было, а тут явилось вдруг. Сосны, как струны арфы, выше, выше — только обмирай от радости. Дорога в подъем, над крупом лошадки парок, отец соскочил на ходу, вожжами шевелит, рукой в санки уперся. И помогает, и седоков своих бережет, как бы санки не разъехались. Дорога над кручей пошла.
На гребешке стали. Вышли из санок «дикий овраг» поглядеть, самый глубокий в здешних краях.
— Истинная пропасть! — ахнула тетя Люся, вцепившись в Милкину ручку и не пуская ее шага сделать лишнего.
Снег в овраге, как вода в омуте — воронкой: завернул раз, другой, третий, а на дне черное око — озеро подо льдом.
— Говорят, внизу дом разбойника стоял. Да под землю ушел, вместе с хозяином. За прегрешения, — говорит отец, усаживая ребят в санки.
— Помнишь бучило на мельнице? — спрашивает Евгения Анатольевна тетю Люсю. — Откуда тебе помнить? Вы все за мамкину юбку держались.
— Зато ты смела чересчур! — кривит губы тетя Люся. — Если бы не Сергев, и не нашли бы.
— О-о-о! — Евгения Анатольевна в испуге округляет глаза. — Уж как потянуло меня, чую — не выберусь, а все равно не кричу. Купаться запрещено в том месте было….
Ребята слушают, затаясь: не часто услышишь, как отец с матерью в детстве бедокурили.
Дорога, петляя, сбегает с кручи в низину. Сосны сначала тоже тянутся за дорогой, но робеют вдруг, редеют, и вот кругом одни березы.
Рябит в глазах, дорога переходит в главный быстрый разворот, вылетает на поляну.
Дом за черным забором. Ворота распахнуты. На крыльце дома, когда-то высокого, прекрасного, а теперь завязшего в паутине пристроек, Митрофан Митрофаныч.
Шапку сдернул, улыбнулся. Сбежал с крыльца и тотчас кинулся распрягать лошадь.
— Сначала коняшку ублажим! — приговаривал. — Коняшку сначала.
Ребята выбираются из санок, озираются.
Кордон среди огромных берез. Ветки, припорошенные инеем, — настоящее кружево. Пушистая поляна, пушистые березы, и на небе над березами пушистое.
На втором крыльце, где дверь забита досками крест-накрест, прыгают, посвистывают синицы.
— Синички мои! Тоже гостям рады! — возникает за спиной гостей Митрофан Митрофаныч. — Конь кушает. Овсеца засыпал вволю. Теперь и мы в тепло, хозяева природы.
В доме на скобленых полах синие половики, в красном углу портрет Сталина, под ним полотенце с красными петухами.
Хозяйка дома пышет, как печь, здоровьем, улыбкой, радушием.
— Проходите! — поет она. — Мальчики-то! Красавцы! А девочка-то! Чистый ангел!
— За стол! За стол! — командует бодро Митрофан Митрофаныч.
И все садятся за стол.
Хозяйка носит закуски: грибы, капусту, огурцы. Сало, сметану, вареники.
— Чем богаты! Чем богаты! — приговаривает она.
Перед детьми поставлен красный свекольный квас.
Отец нахваливает геройство Митрофана Митрофаныча.
Оказывается, он дважды подавал заявление в военкомат, чтоб на фронт взяли. Первый раз, когда «ворога» погнали от Сталинграда, во второй раз — когда войска наши вступили в западные страны.
— Рубки ухода у него, как городской проспект, — Страшнов хлопает Митрофана Митрофаныча по плечу. — Недавно проверяли его работу — оценка «отлично». А какие питомники! Я в научно-исследовательском институте, когда диплом писал, таких не видал. Без преувеличения — каждое дерево знает. Каждое дерево ему родное. При мне сухостой рубили. Так Митрофан Митрофаныч аж занедужил. «Знаю, — говорит, — глупость, но как возьмутся пилить лес — плачу. Ведь сколько росли, родимые, сколько радовали…» На таких лесниках все лесное хозяйство держится.
Это же самое отец и вчера ночью говорил маме, и мама, послушав, спросила:
— А чего ж Кривоусов к нему ездит?
— А пропадите вы пропадом! — рассердился на маму отец. — Отчего ж Кривоусову к леснику не приехать! Кривоусов, чай, директор!
— Вор он, ваш Кривоусов, сам говорил!
— А Митрофан Митрофаныч — не позволит! Ни директору, ни кому другому. Да ты сама убедишься завтра, какой это человек!
— Боюсь его подарочков, — сказала мама. — Больно мягко стелет.
— Брось, говорю! Не могу такого слышать от тебя. На Люсю свою глядишь? Не все такие. Не все, матушка. Подозревать всех людей в дурном — лучше не жить.
— Ну, если хороший, слава богу, — согласилась мама. — Давай спать, детей перебудим.
А Митрофан Митрофаныч и вправду был хороший. Он велел хозяйке своей принести балалайку. Заиграл, обеими ногами запритопывал:
Трынь да брынь,
Трынь да брынь,
Я иду, трясуся.
Темень — глаз поколи,
А в лесу бабуся.
Трынь-брынь — огоньки
Ходят-бродят сини.
Или золото найду,
Иль пропаду в трясине.
— Пляши, ребята! — крикнул Митрофан Митрофаныч.
Отец вскочил, хлопнул ладонями в такт, и Милка вдруг — прыг на середину комнаты и стала кружиться на одном месте. Федя и Феликс тоже пошли плясать. Садились на корточки, выставляли то одну ногу, то другую. Присядка да и только!
Тут и хозяйка вышла, за концы платка цветного взялась, голову закинула и пошла ногами стучать, так что стекло в лампе закачалось, зазвенело.
Старший Страшнов тоже не утерпел, выскочил, руки раскинул, глаза вытаращил, бровь дугой, ножкой о ножку, на носки вскочил: то ли русская, то ли лезгинка, но здорово!
Уморились плясуны, да и Митрофан Митрофаныч тоже пот отер полотенцем. Хозяйка ему специально подала.
Евгения Анатольевна на окошко показывает Страшнову:
— Синё. Домой пора. Волки ведь балуют.
— Что нам волки?! — Страшнов чубом тряхнул, огурчиком хрустнул.
А Митрофан Митрофаныч из-за стола поднялся.
— Пойду запрягать! Верно Евгения Анатольевна говорит. Волки балуют.
Стали собираться, одеваться. Хозяйка вынесла узел с пирогами.
— На дорожку.
— Что вы! Что вы! — стала отказываться Евгения Анатольевна.
— Лошадка готова! — объявил резвый Митрофан Митрофаныч. — Морозно.
— Ну, спасибо, мин херц! — обнял его за плечи Страшнов, видимо, начиная входить в роль Петра Великого. — Утешил.
— Спасибо вам, что посетили! — заулыбался Митрофан Митрофаныч. И хлопнул себя по лбу. — Чуть не забыл… Николай Акиндинович, подмахни, бога ради, одну бумажонку.
И тотчас бумажонку эту достал из пиджака.
— Перо! — распорядился Петр Великий и подошел к окну. — Свету!
— Сей миг! — сказала хозяйка, суетясь возле лампы.
— Да чего читать! — воскликнул Митрофан Митрофаныч. — Чтение-то невелико, и дело — пустяк.
Лампа загорелась. Николай Акиндинович взял ручку, поданную Митрофаном Митрофанычем, обмакнул перо в чернильницу. Поднес бумагу под лампу, почитал, раскрыл ладонь, лист косо покружился в воздухе и лег на пол возле Николая Акиндиновича. Николай Акиндинович встал на него двумя ногами и вытер о него оба сапога.
— Вот так! — сказал он.
— Нет-с, не так! — Митрофан Митрофаныч, красный, как свекла, нагнулся, схватил бумагу. — Нет-с не так, милейший Николай Акиндинович. А на что, спрашивается, я вас всех кормил-поил, подарки дарил?
— Евгения! — крикнул Страшнов, чернея. — Деньги при тебе?
— У меня есть! — сказала тетя Люся.
— Давай!
Страшнов взял три сотенных бумажки, положил на стол.
— Есть еще?
Тетя Люся достала из сумки две пятерки, десятку, тридцатку, несколько рублей.