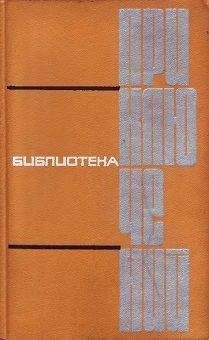Михаил Яворский - Поцелуй льва
Впрочем я не имел времени углубляться во все эти размышления. Ходить на уроки, быть активистом и одновременно заниматься подпольной работой не оставляло много времени на сон. Поэтому я радовался, что весеннее полугодие заканчивается. Скоро я поеду в Явору, мать уже больше года меня не видела.
Последнее письмо от неё я получил около месяца назад. Чтобы обойти цензуру, она передала его через старшего брата Дмитрия, лесничего, когда он ехал во Львов. Так она могла писать, что думает.
Это было длинное письмо, оно чуть не довело меня до слёз. Она всё переживала, или есть у меня продукты, как учёба, беспокоится ли обо мне пан Коваль, как те зимние носки, которые она мне прислала ― наверно уже порвались. «Неделю назад снился плохой сон. С тобой правда всё хорошо?»
Однако переживать должен был я о ней, а не наоборот. Условия в селе, как она писала, постоянно ухудшались. Когда село год назад превратили в коллективное хозяйство, всем оставили только по небольшому куску поля, которого едва хватало на овощи. Она теперь имела только одну корову, остальных пять и коня забрали в колхоз. Даже сепаратор и жернова пришлось отдать. Она писала, что сепаратор её всё равно не нужен, потому что одна корова давала недостаточно для него молока, а вот без жернов она не могла смолоть муки на хлеб.
Я вспомнил, как наши летние гости любили тот хлеб с домашним маслом. Я отдавал предпочтение булкам, которые она подавала в воскресенье к завтраку. Наблюдая, как она замешивает тесто для булок, я наслаждался запахом муки, дрожжей, изюма и сливок.
Это письмо возбудило у меня ненависть к «Ним» ― учителям, директрисе, к тем самодовольным опекунам моего будущего, ко всем тем, кто утверждал, что знает, что хорошо для меня, для пролетариата, для всего мира.
Благодаря этой ненависти, я вдруг понял, насколько я отдалился от мамы. Когда я уезжал из Яворы, отец был ещё жив. А теперь она осталась одна с моим младшим братом Ясем.
Она писала, что счастлива, что я живу в городе. «Тут, в селе, нет жизни. Некоторые люди хуже скотины. Напуганы, каждый трясётся за свою шкуру. Мы с утра до вечера мозолимся в колхозе. Нас разделили на бригады, в каждой из которых другая работа. Мне посчастливилось ― назначили в полевую бригаду. Я беру Яся с собой. Через неделю ему будет шесть лет и в августе он пойдёт в первый класс. Он так быстро растёт ― уже выше тебя в его возрасте. Иногда рассказывает мне так, будто я об этом не знаю, что имеет во Львове брата и когда-нибудь поедет к нему. Господи, как бежит время! Тебе скоро пятнадцать. Я и тебя когда-то брала летом на наше поле. Ты был таким смирным ребёнком, даже в пелёнках никогда не плакал».
Следующие четыре строки были зачёркнуты и очень закрашены, чтобы я ничего не прочитал. Почему? Может она боялась моей реакции? А может это было что-то очень личное и она колебалась, стоит ли делиться этим со мной. Только одно слово можно было разобрать. Это было слово «Коваль».
Письмо продолжалось. «По воскресеньям, тогда, когда раньше люди ходили в церковь, теперь село сгоняют в клуб. Там люди осуждают один другого и сами себя, как голодные волки. Они называют это „критикой и самокритикой“. Потом они вынуждают нас давать обещания, что мы будем работать лучше и больше, чтобы выполнять и перевыполнять нормы, которые они нам дают. Я, спасибо Богу, ещё в силе, но что будет дальше? Не хочу и думать об этом. Верю, что всё будет хорошо».
Дальше она сообщала, что церковь в селе сожгли, а старого священника арестовали. Тот священник, напомнила она, один раз дал мне подзатыльник, когда я на уроке религии запнулся, рассказывая Заповеди.
Невероятно, но она помнит такие мелочи. Но наиболее меня удивило то, что она написала в конце.
«Дорогой Михаил, какое это счастье, что я могу тебе написать. Не помню, говорила ли я тебе, что я не ходила в школу. В моё время девочек в школу не посылали. Мы были предназначены к замужеству, должны были быть помощницами нашим мужьям, как говорил твой отец, земля ему пухом. Только после твоего рождения благодаря пану Ковалю я научилась читать и писать. Тем летом он привёз мне из Львова азбуку, тетрадь, два карандаша, ручку и чернило. До сих пор помню, как дрожали мои пальцы, когда я впервые в жизни держала ручку. Он тогда сказал: „Времена быстро меняются. Научитесь читать и писать, может придётся когда-нибудь написать Михасю и читать его письма“. Пан Коваль человек уважаемый, он знает что говорит. Поблагодари его за опекунство над тобой. Будь почтительным с ним».
«Революция пожирает своих детей»
В.Л.ЛеонардТАНЕЦ ЛАСТОЧЕК
― Куда ты в такую рань? ― услышал я голос пани Шебець, выйдя на веранду. Она стояла в приоткрытых дверях своей комнаты. Наверно она только что проснулась, потому что вышла босиком, в ночной рубашке. Волосы были растрёпаны, а лицо ― белое как снег.
Такой её вид вряд ли понравился пану Ковалю. В его обществе она была совсем другим человеком ― безупречно уложенные волосы, нарумяненные щёки, на губах ― помада, которую она хранила, наверное, со старых времён.
― В Явору, ― ответил я, не готовый к её утренним расспросам. Кроме того я боялся опоздать. Поезд в Явору шёл один раз в день и я был уверен, что мама меня встретит. Я написал её, что приеду 22 июня.
― Ты на всё лето останешься в Яворе? ― снова начала пани Шебець.
― Нет, на всю жизнь, ― с сарказмом ответил я, захлопывая двери веранды, даже не попрощавшись с ней.
Я отлично знал, почему она спрашивает на какое время я еду ― надеялась, что не вернусь. Она считала меня препятствием её замужеству с паном Ковалем. Я часто слышал, как она говорила: «Я так хочу быть с тобой, вечно, только я и ты, Иван, мы вдвоём и больше никого» или «Почему бы тебе не отправить Михася к матери? Он и так слишком долго пробыл с тобой. Он достаточно сильный ― пусть помогает матери в хозяйстве. Она, наверно, нуждается в помощнике».
Чего-то такая забота пани Шебець о моей матери не оказала на пана Коваля впечатления. Может я и ошибался, но не думал, что я был виноват в отказе пана Коваля жениться на ней. Пан Коваль был самоуверенный и выше всего ценил свою самостоятельность. Да, он любил женщин, но не хотел быть связанным ними. Если бы не его «бабство», как говорила пани Шебець, он мог бы жить как аскет или, наверное, стать монахом на горе Афон.
Пани Шебець не знала, что я не был уверен, хочу ли я после каникул вернуться во Львов. Но эта неуверенность ничего общего не имела ни с ней, ни с паном Ковалем.
Если я вернусь в школу, то стычки с директрисой не миновать. Она не глупая. Прийти к ней с пустыми руками просто невозможно, так как, если верит прессе, враги народа не дремлют. Она сделала бы вывод, что мне (да и Богдану) нельзя доверять. Последствия очевидны. Последние месяцы даже местных «старых коммунистов» критиковали, публично обвиняя в «идеализме», называли «замаскированными буржуазными националистами», отправляли в ссылку. Партия «чистила свои ряды» от «плёвел» и меняла их на пришельцев из центральной России. Сестре пани Шебець Ульяне, которая верила в коммунизм, как преданный христианин верит в Иисуса, выпала судьба первых христиан. Василий, наш бывший сторож, который после освобождения стал членом исполкома города Львова, тоже исчез. Когда-то его фотографии часто появлялись в газетах. Его называли «настоящим пролетарием» и «преданным строителем коммунизма», но после чистки о нём не было никаких вестей.
Я был на распутье и не знал, какой дорогой идти. Казалось, все они вели в тупик. Самой привлекательной было бегство на Запад. Это было рискованно, особенно летом, но я был готов к опасностям. Одно меня волновало ― что об этом скажет мама.
Я решил на всё лето остаться в Яворе, помогать матери. В конце лета я сказал бы ей, что возвращаюсь в школу. Она бы провела меня до станции. Однако, вместо того, чтобы ехать во Львов, я выпрыгнул бы из поезда там, где он самое ближе подходит к границе. А дальше дорогу я знал.
Я рассказал о такой возможности Богдану. Сначала он пришёл вне себя, обвиняя меня в измене Организации, а потом согласился, что я имею резон.
Готовясь к переходу границы, я решил взять с собой револьвер. Я спрятал его в Марксовом «Капитале». Эта книжка имела соответствующие размеры. Я положил револьвер на страницу 77 (счастливый номер), обвёл его контуры, и затем одну за другой вырезал страницы. Это была медленная нудная работа. Мне приходилось постоянно затачивать лезвие ножа. Наконец вырез был достаточно глубоким ― револьвер вошёл в него как рука в перчатку.
В воскресенье 22 июня 1941 года по дороге на станцию, я нёс его в заплечной сумке вместе с несколькими другими книгами, грязными рубашками, бельём и зимними носками, которые мама велела привезти, чтобы заштопать.
Я мог бы сесть в трамвай, но так как они ходили очень нерегулярно и мне необходимо было делать две пересадки, я решил идти пешком. Так было быстрее и безопаснее.