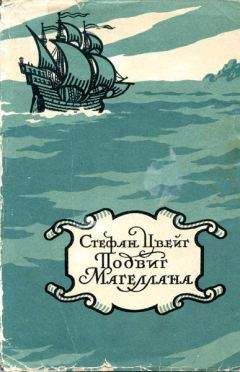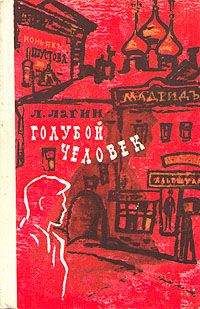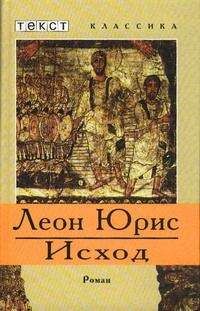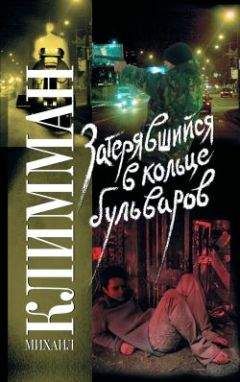Ганад Чарказян - Горький запах полыни
Немного подискутировав с богами, выбрал новое направление — под углом к вчерашнему. Главное, дойти до самого конца. Тогда буду точно знать, что там меня ждет, и постараюсь больше туда не попадать.
К вечеру все-таки добрался до ручья — возможно, даже того самого. Благоговейно опустился перед ним на колени. Наклоняясь и черпая воду горстями, старательно прополоскал рот, смыл тошнотворную горечь, что после утреннего водопоя осела на языке и небе. Потом опустил обгоревшее лицо к самой воде, несколько раз погрузил его в бегущие ледяные струи. И только после этого — понемногу, маленькими глотками — начал утолять жажду. Потом, не вставая, отполз на четвереньках в нишу под стеной. Никуда больше не пойду, буду пить эту воду и бессильно дремать, проживая хотя бы в сновидениях тот остаток жизни, что будет мне дарован. Простите, дорогие мои мама и бабушка, нет больше сил у меня, чтобы жить, чтобы вернуться к вам, стереть слезы с глаз и подарить хоть немного радости. Не плачь, мама, не плачь, я не достоин твоих слез.
Готовый больше не просыпаться, блаженно заснул в обнимку со своим топориком. Не знаю, сколько провел в этой небольшой пещере — день, два, три? Сознание покинуло меня, и только красочные и лихорадочные сновидения сторожили мою жизнь, все еще пульсирующую, мерцающую — как угли под ветром.
11
Худодад и Али пришли в себя только на третий день, когда в бурдюке оставалось уже около четверти. Салем сбился с ног, управляясь в одиночку с отарой и дойными овцами. Сначала пастухи не заметили моего отсутствия, так как само присутствие на их празднике чужого человека казалось сомнительным. Но Салем подтвердил: раб Сайдулло действительно находился с ними, когда они устроили себе небольшой праздник. Но куда же он делся? Пока они ломали над этим вопросом трещавшие с перепоя головы, прошел еще день. Сначала думали, что я заблудился, когда пошел за хворостом. Но потом обнаружили, что исчез старый халат, которым затыкали щель под дверью, чтобы не так быстро уходило тепло. Пропал и мешок. Еще день думали, что делать. Еще какое-то время и Худодад и Али должны были потратить на окончательное выздоровление. Поэтому трудиться с полной нагрузкой не могли. Срочно нужен был помощник измученному и почти не спавшему Салему. То, что исчез халат, наводило на мысль о побеге. Но куда отсюда можно было убежать? Только в страну цветных камней, откуда никто не возвращается. Все же решили пустить по следу самого умного и сильного пса — ткнули его носом в дверь, на которой висел халат, в то место на кошме, где я спал. Пес немного покрутился вокруг хижины и взял след.
К обеду он вернулся с оторванным рукавом халата. Опять проблема — что делать? Видимо, беглец погиб. Но Сайдулло может обвинить их в том, что они из зависти убили его шурави. В любом случае, надо тащиться туда, где нашел упокоение этот несчастный. На следующий день, дав Салему, наконец, выспаться, усадили того на единственного ишака и послали за скорбным грузом вместе с собакой-разведчиком. Хотя, как признавался потом со смехом Худодад, втайне надеялись, что шакалы и стервятники уже сделали свое дело. Но может, хоть халат удастся спасти — вещь хотя и неказистая, но все же необходимая в хозяйстве.
Салем и доставил то, что от меня оставалось, к пастушьей хижине. Он с трудом вытащил меня из норы, облил холодной водой, привел в чувство, напоил и кое-как усадил на своего ишака. Ноги мои волочились по земле, ударялись о камни, я часто падал лицом на шею терпеливому животному, но все же сгрузил меня Салем на зеленую травку вполне живого.
Пастухи молча оказали мне необходимую помощь, напоили чаем с молоком, — обнаружилась у них и одна тощая коровенка, — жидкой кукурузной кашей. Потом помогли войти в хижину и уложили возле огня — меня бил сильный озноб. Вечером разбудили, заставили выпить пол-кружки шаропа, съесть овечьего сыра с лепешкой. Они не задавали никаких вопросов, ни в чем не упрекали. Через три дня я снова приступил к исполнению своих обязанностей по заготовке хвороста. К ним добавилась и помощь Салему в дойке овец и в приготовлении сыра. Так что забот прибавилось и времени думать о разных глупостях просто не оставалось. После ужина глаза слипались, и я засыпал сразу, как только касался кошмы.
Через две недели приехал Сайдулло, привез продукты. Он как-то подозрительно оглядел меня. Потом расспросил, как тут со мной обращаются. Я ни на что не жаловался и спокойно ждал, когда пастухи расскажут о побеге. Но, видимо, они ничего не сказали моему хозяину — может, боялись, что он сразу заберет меня и оставит их без помощника. Сайдулло переночевал, забрал сыр, которого в этот раз было меньше, чем обычно, и уехал домой.
Вечером спросил, почему же они не сказали о моем проступке хозяину. «О каком проступке? — делано удивился Худодад. — То, что ты немного перебрал шаропа и на время потерял разум? Так ведь не ты один. Мы тоже три дня обходились совсем без мозгов. — И добавил потом очень серьезно: — Ты ничего не видел, и мы ничего не знаем. Потому что если дело дойдет до старейшины, нас прогонят с этой работы. Желающих на наше место много».
Так мой неудачный побег остался тайной для Сайдулло. Думаю, что это известие его бы очень огорчило. И не только потому, что он рисковал потерять своего помощника.
Прошло еще две недели, и мне на смену приехал наш сосед Вали. Глянув на меня, он неожиданно довольно улыбнулся: «Видно, что здесь тебе дали, наконец, немного поработать!» На следующий день домой в кишлак я отправился один и пешком. Вышел еще в утренних сумерках, а к вечеру был в своей пещере. По дороге думалось о разном, но мысли о свободе почему-то больше не беспокоили. Только на минуту задержался у того поворота в страну цветных камней и спокойно проследовал дальше. Та неделя, что я провел без пищи и воды, мучимый то жарой, то холодом, казалась мне теперь чужим и почти забытым страшным сном. Зато вечером, как и мечталось среди тех камней, я снова оказался под смоковницей с уже темнеющими плодами и пил зеленый чай, сидя на ковре напротив хозяина. «Я почему-то очень за тебя беспокоился, — признался Сайдулло. — Да и все соскучились по тебе — особенно Дурханый».
На глазах невольно выступили слезы. Хорошо, что мигающий свет масляного светильника не позволял их увидеть. Как-то незаметно семья моего рабовладельца стала и моей семьей. Да и что тут удивительного? Ведь мы работали с ним на равных, честно проливали пот над лоскутными полями, чтобы добыть себе насущный хлеб. А что же делает людей более близкими, как не совместный труд во благо жизни?
В уже привычных трудах и заботах незаметно пролетело лето, и снова началась осень — то есть зима. Снова пришел навруз. Я уже более уверенно чувствовал себя на этом весеннем празднике. Даже принял участие в соревновании метателей камней и выиграл у Худодада призового петуха. Он немного удивился, но не обиделся и, подмигнув мне, пригласил зайти к ним, попробовать кое-чего. Я сказал, что мне надо спросить позволения у Сайдулло. «А ты ведь когда-то поступал, как тебе самому хочется!» — усмехнулся Худодад. «Это только после того, как попробовал кое-чего!» — улыбнувшись, я тоже нашел, что ему ответить. «Ладно, — сказал Худодад и хлопнул меня по плечу, — до встречи на пастбище!»
Но главной темой разговоров на празднике был недавний и окончательный вывод советских войск из Афганистана. С прошлого года шли разговоры, что шурави уходят. Я впервые услышал их после возвращения с горного пастбища. Но сейчас уже не было никаких сомнений — радио донесло к нам эту весть. Жители кишлака радовались, а я чувствовал себя абсолютно покинутым. Теперь моя мечта выйти на дорогу и дождаться встречи со своими просто растаяла в воздухе. Еще летом, когда бездумно рванулся к свободе, она бы могла осуществиться. Теперь я совсем не представлял, как мне добраться до родной Блони.
А тут еще вскоре после вывода наших войск заговорили о войне в Таджикистане — очень большая война, очень большая кровь, русские бегут. Получалось, что если я даже доберусь в Душанбе, то могу погибнуть уже на территории Советского Союза. Какой-то бесконечный тупик. Неужели мне на роду написано провести всю жизнь в кишлаке Дундуз?
От тяжелых и безрадостных размышлений, как всегда, спасала только работа — опять началась посевная. Я понемногу втягивался в идиотизм сельской жизни и учился радоваться тому, что есть. Однообразное повторение происходящего действовало сильнее, чем любой наркотик. От физических нагрузок тело крепло, мозг тупел, и довольство жизнью все чаще замечалось на моем лице. Да ведь для счастья нужно так мало. Главное — уметь ограничить себя спасительным и доступным кругом.
После посевной, когда стало немного легче и я снова начал заглядываться на звезды, произошло, наконец, то, что сделало мою жизнь вполне терпимой. Однажды ночью меня разбудил нежный шепот: «Халеб…» Рядом со мной лежала женщина. От волнения я не мог сказать ни слова. Она как будто материализовалась из моих сновидений. Я представлял себе это именно так: просыпаюсь на звуки своего имени и — Она уже рядом. Мне остается только укрыть ее одеялом и прижать к себе.