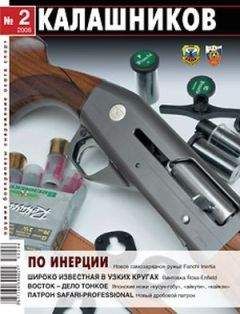Анатолий Кучеров - Служили два товарища...
В углу сидел Морозов и читал, а может быть, не читал, а наблюдал за мной, подбрасывая поленья в железную печурку, на которой грелся чайник.
Вот уже неделя, как мы были знакомы, а он всё не мог начать разговор. На этот раз Булочка заговорил. Он даже книгу отложил для решительности, подошел и выпалил: — Товарищ старший лейтенант!
Я взглянул. Морозов стоял красный от волнения.
— Товарищ старший лейтенант, — повторил он, — я бы полетал с вами... Вы бы меня... Мы бы с вами хорошо летали... Да вот штурман ко мне прикреплен, да и вам нельзя, раз вы адъютант.
Вторую половину фразы он произнес шепотом, хотел сказать еще что-то, не нашелся и вышел, изо всех сил хлопнув дверью.
А я вскочил и стал ходить по тесному помещению, даже петь захотелось. Обрадовал меня Морозов.
Но, конечно, не стоило делать из мухи слона, и приходить в восторг тоже не было причины. Офицер хороший и летчик неплохой, но это еще не повод, да и дела на фронтах и мои дела вовсе не были так замечательны. Чего уж там петь! Но я словно предчувствовал, что в этот вечер произойдет что-то небывало хорошее. Кто его знает, может быть, и не врут предчувствия?
Я всё ходил по землянке и время от времени останавливался у карты, стараясь представить обстановку на Сталинградском фронте. У нас в углу висели столовые часы из разрушенного дома, они пробили одиннадцать. Вдруг заговорило радио...
Я остановился. Я застыл, словно статуя, онемев. Каждая жилка во мне заликовала. Я забыл все свои печали и горести; все мои переживания и ошибки показались мне в эту минуту ничтожными, даже странно было, как я мог о них раньше думать.
Диктор говорил: «Наши войска под Сталинградом, перейдя в наступление с северо-запада и с юга, продвинулись на шестьдесят — семьдесят километров. Взят город Калач. Наступление продолжается».
Подбежал я к карте и принялся переставлять флажки. Какое это было, черт побери, наслаждение! Сколько времени они уже стояли как неживые и вдруг чудесно ожили и двинулись по карте на запад. Потом я много раз переставлял флажки. И они шагали и шагали всё на запад до самого Берлина.
Я не заметил, как зашипела вода, выплескиваясь из носика чайника на раскаленный чугун, и как еще раз хлопнула дверь на пружине и передо мной выросла фигура майора Соловьева, осыпанная снегом.
Я сразу понял по его виду, что он всё знает: такой он был веселый и счастливый.
— Ну, Борисов, дождались!.. Поздравляю!.. — сказал он торжественна и подошел к карте.
Мы долго молча рассматривали новую линию фронта, и лицо майора, мокрое от растаявшего снега, светилось от удовольствия. Потом майор повернулся ко мне и сказал неожиданно резко и с накипевшей злостью:
— Ничего, Борисов, и у нас дела пойдут в гору! Подожди, Ленинград им покажет!.. За все покажет! Подожди, Борисов, потерпи!
Майор подошел к печурке, протянул красные от холода руки к накалившимся дверцам и, смягчаясь, сказал:
— Как работается, старший лейтенант?.. Знаю, что порядок. Проведете с краснофлотцами беседу о международном положении.
Это было неожиданно.
— Есть провести беседу... Но...
— Видишь ли, Борисов, — пояснил Соловьев, — у тебя пока время свободное, так грех, чтобы оно убегало.
— Меня удивляет ваше предложение, товарищ майор.
— Почему?
— Пожалуй, можно и не объяснять, — сказал я.
— А вы и не объясняйте, старший лейтенант. Работайте.
Это было, конечно, приятно, но странно. Политработы я не вел и вообще никогда не числился в теоретиках, больше тройки по истории партии не получал — и вдруг выступить с докладом! Удивительные идеи бывают у нашего Соловьева.
Зазвонил телефон. В трубке я услышал голос комсомольского секретаря Величко.
— Здорово, Борисов! За тобой должок по членским взносам, так что заходи, уплатишь, а заодно и литературу возьмешь, я тебе кое-что к докладу приготовил... Ну, как здоровье и все прочее?
— Спасибо за литературу, — сказал я, — утром зайду.
* * *
Я вышел из землянки по шаткой лесенке. Положительно, я не мог сейчас заниматься своими бумагами.
На земле лежал нежный белый покров. В облаках быстро катилась луна, и снег сверкал ослепительно чистый в лунном свете. Пронеслась над городом шальная метель, засыпала всё вокруг и стихла. Потеплело. Искрясь, кружились в воздухе одинокие белые звездочки и колючие иголки.
На огромном поле аэродрома рота краснофлотцев, освещенная луной, убирала снег лопатами из фанеры.
В такую лунную ночь с тихим снежком удобно бомбить. К черту, не надо об этом думать!
В такую лунную мирную ночь хорошо ехать в деревенских санях рядом с Верой, укутать ноги потеплее и смотреть, как тают снежинки на ее лице, а я этого никогда не видел.
Вспоминается детство. Вот в такую лунную ночь в жарко натопленной комнате, когда слышен только ход сонного маятника, хорошо подойти к окну и сквозь мутнеющее от мороза стекло всматриваться в снежные искры, в белые тихие крыши, в звезды, огромные, как елочные орехи, с иголочками-лучами.
Тяжело в такую ночь одному и вместе с тем хорошо. Тяжело потому, что хочется поделиться с близким человеком, а нет его под рукой, и хорошо: что-то поет в тебе и кажется — всё возможно. Всё хорошее возможно в такую минуту.
Я подошел к командиру роты. Он сидел на подножке маслозаправщика и с ожесточением смотрел на небо.
— Ишь, навалила, прорва, — сказал он, подвигаясь и освобождая мне место. — Ну и погода. То снег, то дождь — шут его знает, что за климат. Вот у нас в Сибири: если жара, так жарко, если мороз — так мороз. Порядок. А здесь, скажем, сейчас холодно, глядишь — завтра все равно летать нельзя: туманит, и к вечеру снова снег, и опять убирай... Нелегко воевать лопатой, — закончил он, словно я спорил с ним.
— А нельзя ли у вас лопату?
— А хоть десяток, вон у сосенки, — хмуро ответил лейтенант, видимо, обиженный тем, что беседа не состоялась.
Я взял лопату и пошел к полосе.
— Нашего полку прибыло, ребята! Становись сюда, товарищ командир, — сказал крайний краснофлотец.
Снегу было много, полоса огромная. Я стал рядом и принялся сгребать с полосы. Снег так и летел из-под лопат. Скоро к нашему краю подъехала машина, и за несколько минут мы навалили полный кузов. Серебристая в свете луны пыль летала в воздухе. Бушлаты и ушанки краснофлотцев побелели.
— Ну, теперь перекур! — объявил мой сосед.
Человека четыре, работавших рядом, отошли к палатке у старта. В палатке лежали свежие сосновые ветки и горел фонарь. У входа стоял бачок с водой и кружкой на медной цепочке.
Мой сосед достал кисет с махоркой и протянул мне:
— Покурите, товарищ летчик, нашего.
— А вы папиросы не хотите?
— Отчего же.
Мы сели в палатке у входа. Четыре краснофлотца потянулись к моим папиросам. Все закурили, незаметно завязался общий разговор.
— Вы, часом, не Борисов будете?
— Борисов.
— Тот самый Борисов? Вы уж простите, что я так сразу, дело житейское.
— Да, тот.
Краснофлотцы посмотрели на меня с любопытством.
— Да, любишь кататься — люби и саночки возить, — неожиданно сказал мой сосед.
— Это так, — подтвердил другой, доставая сухарь из кармана и принимаясь его грызть. — Нет, вы по совести скажите, товарищ командир: довольны, что не летаете?
— А чего ему стало, — заметил кто-то, — сыт, обут и нос в табаке.
— Как же так, ребята? Учился на штурмана, знаю дело. И вдруг: довольно летать, идите в канцелярию. Товарищи мои летают, а я в это время приказы переписываю...
Эти слова вырвались у меня невольно и, должно быть, произвели впечатление на краснофлотцев. Все примолкли.
— Правильно говорите, товарищ командир, — сказал наконец маленький краснофлотец, сидевший на корточках и куривший почему-то в рукав, обращаясь не столько ко мне, сколько к краснофлотцу, спросившему, доволен ли я, что не летаю. — Легкое ли дело — со своего места уйти. Возьми Сергеева: сняли его за беспорядки, поставили на другую работу. Так ведь как человек страдал! Или вот служил я до ранения на «охотнике». Случалось, что провинившегося не брали в операцию. Дружки уходят в море, а он сиди на берегу и грей пузо. Так ведь как страдал. И понятно!
— А мне нет, — заговорил тот, который начал с замечания по поводу носа в табаке. — Чего, спрашивается, человеку надо? Или он самый последний дурак, или перед кем-то выкомаривает: вот, мол, я какой, смотрите на меня!
— Глупости! — неожиданно и зло оборвал его мой сосед. — Совести нет, потому и не понимаешь.
Сидевший на корточках краснофлотец засмеялся.
— А при чем тут совесть? — обиженно возразил задетый.
— Выходит, для одного наказание, а для другого счастье, поди разберись, — сказал краснофлотец, кусавший сухарь.
— Так ведь товарища командира никто и не наказывал. Просто не хотят летать с ним — и точка.