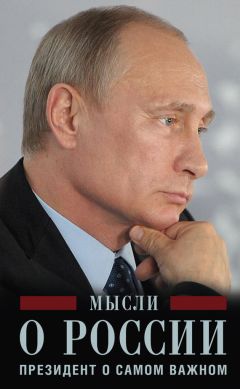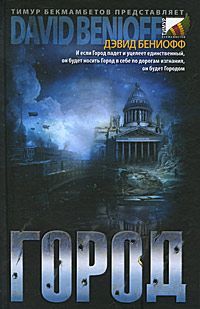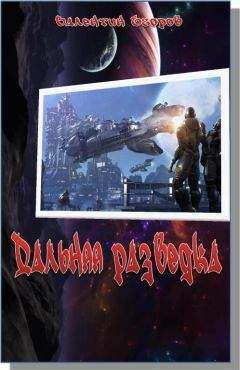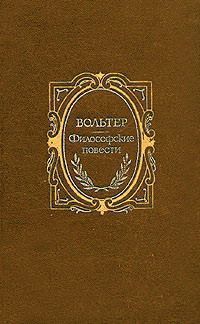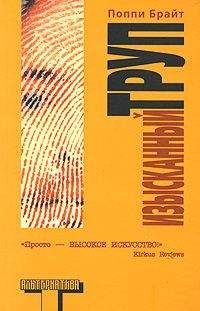Дэвид Бениофф - Город
Я кивнул. Что бы он мне сейчас ни говорил, арифметика не складывалась. Немцев шестеро, а нас двое. Девушки разве станут нам помогать? Ради Зои они и пальцем не шевельнули — но что они могли сделать ради Зои? Фрицев шестеро, патронов в «Токареве» — восемь. Я надеялся, Коля стреляет метко. Через все мое тело бежал электрический страх, от него подергивались мышцы и пересохло во рту. Сна — ни в одном глазу, словно в тот миг в сельском домике под Березовкой по-настоящему и началась моя жизнь, а все, что случилось раньше, было тяжким, неспокойным сном. Все чувства необычайно обострились; в этот миг напряжения я знал все, что мне нужно было знать. Я слышал хруст сапог по насту. Ноздри мне щекотал дым хвои из очага — ее жгли по старинке, чтобы в доме приятно пахло.
От винтовочного выстрела мы оба вздрогнули. Замерли в темноте: что происходит? Через несколько секунд раздалось еще несколько одиночных выстрелов. Немцы закричали в панике, перебивая друг друга. Коля рванулся к двери. Я хотел было его остановить: у нас же был план, и план был — ждать, — но не хотелось оставаться одному, пока снаружи стреляют, а немцы орут свои уродские команды.
Мы выбежали в большую комнату и сразу растянулись на полу — пробив окно, над нами прожужжала пуля. Все девушки тоже лежали, прикрывая руками лица, чтоб не задело осколками стекла.
Я уже полгода жил на войне, но в настоящем бою еще не бывал. А сейчас даже не знал, кто с кем воюет. Снаружи грубо кашляли автоматы. Винтовочные выстрелы вроде бы доносились издали, возможно — из лесу. В каменные стены дома лупили пули.
Коля подполз к Ларе и встряхнул ее:
— Кто в них стреляет?
— Не знаю.
Снаружи завелась машина. Захлопали дверцы, взвыл мотор — автомобиль резко рванул с места по снегу. Винтовки захлопали чаще, выстрелы сливались, пули лязгали по металлу — по камню они били совсем не так.
Коля приподнялся и на корточках переполз поближе к двери, держа голову ниже линии подоконников. Я пополз за ним. У двери мы оба встали на колени, и Коля в последний раз проверил пистолет. Я вытащил нож из ножен на лодыжке. Я понимал, что выгляжу глупо — так мальчишка держит отцовскую опасную бритву. Коля ухмыльнулся; мне показалось, он вот-вот расхохочется мне в лицо. Странно, успел подумать я. Вот я в настоящем бою, а слежу за собственными мыслями, не хочу глупо выглядеть с этим ножом, раз все воюют винтовками и автоматами. Сознаю, что сознаю. И даже сейчас, когда кругом свирепыми шершнями жужжат пули, мозг у меня болтает и не затыкается.
Коля взялся за ручку и плавно потянул дверь на себя.
— Погоди, — сказал я. Еще на несколько секунд мы замерли. — Стихло вроде?
Перестрелка вдруг прекратилась. Мотор машины еще ревел, но не было слышно, чтоб она ехала. Немецкие голоса тоже смолкли — так же внезапно, как и выстрелы. Коля коротко взглянул на меня и медленно приоткрыл дверь. Высокая луна светила ярко, и под ней расстилалась кровавая сцена. Офицеры айнзацгруппы в белесых маскировочных куртках валялись ничком на снегу, а по нерасчищенной дорожке медленно катился «кюбельваген»: окна выбиты, из двигательного отсека валит черный дым. С пассажирского места в окно вываливался труп, руки еще сжимали автомат. Второй «кюбель», лихо подъехавший к дому, с места так и не тронулся. Между ним и домом валялись два немецких трупа, из пробитых голов на снег сочилась темная жижа. Я только успел оценить меткость снайпера — и тут между нашими с Колей головами вжикнула пуля. Словно задели туго натянутую струну.
Мы откатились от двери, Коля пинком ее захлопнул. Потом сложил ладони рупором и заорал в разбитое окно:
— Мы русские! Эй! Эй! Мы наши!
Несколько секунд висела пауза. Потом — голос издали:
— А по мне — так фрицы вылитые!
Рассмеявшись, Коля от радости двинул меня кулаком в плечо.
— Я Власов! Николай Александрович! — крикнул окно. — С проспекта Энгельса!
— Придумай чё получше! Такое даже фриц сочинит, если говорит по-русски!
— Проспект Энгельса, ха! — прозвучал еще один голос. — Да у нас, сука, в любом городе проспект Энгельса!
Не перестав хохотать, Коля схватил меня за воротник шинели и потряс. Единственно от прилива энергии, от того, что он жив и счастлив, — и больше ни от чего. Ему просто нужно было что-нибудь встряхнуть. Он подполз ближе к разбитому окну, стараясь не оцарапаться об осколки.
— Трижды пиздоблядский мудопроебный распропердон! — заорал он. — У мамаши твоей на манде хоть пионерскую зорьку играй!
Последовало продолжительное молчание. Колю оно, похоже, ничуть не взволновало. Он похмыкивал собственной шуточке и подмигивал мне, как ветеран войны с турками где-нибудь в бане, на отдыхе с однополчанами.
— Понравилось? — опять крикнул он во все горло. — Думаешь, фриц по-русски такое сочинит?
— Ты про чью это мамашу выразился? — Голос звучал ближе.
— Не того мамашу, который стрелять умеет. У вас там кто-то гениально с винтовкой обращается.
— Оружие есть? — спросил снаружи голос.
— «Токарев».
— А у дружка твоего?
— Только ножик.
— Выходите оба. И руки за голову, или яйца отстрелим.
Пока шел этот разговор, Лара с Ниной тоже подползли ближе к дверям. На их ночнушках блестели мелкие осколки оконных стекол.
— Их убили? — прошептала Нина.
— Всех шестерых, — тоже шепотом ответил я. Я думал, девушки обрадуются, но они тревожно переглянулись. Кошмар последних месяцев для них кончился. Но теперь им надо куда-то бежать, они не знают, что будут есть, где ночевать. С миллионами русских — то же самое, но девушкам придется хуже. Если их опять поймают немцы, мучить в наказание будут сильнее, чем Зою.
Коля потянулся к дверной ручке, но Лара его остановила. Тронула за ногу.
— Не надо, — сказала она. — Тебе не поверят.
— Это почему? Я боец Красной армии.
— А они — нет. Здесь на тридцать километров никакой Красной армии. Они решат, что ты дезертир.
Коля улыбнулся и накрыл ее руку своей:
— Я похож на дезертира? Не волнуйся. У меня мандат.
Лару это не успокоило. Коля опять потянулся к ручке, а она подползла под самое окно.
— Спасибо, что спасли нас, товарищи! — крикнула она. — Эти двое — наши друзья. Не стреляйте!
— Думаешь, я бы промахнулся мимо такой жирной башки? Она давно нам сигналит. Пущай шутник наружу вылазит!
Коля открыл дверь и шагнул на улицу, задрав руки повыше. Прищурился от яркого снега, но никого не увидел.
— И мелкий тож!
Обе девушки испуганно поглядели на меня, но Лара ободряюще кивнула: иди, мол, не трусь. Я вдруг разозлился: а чего сама не идет? Они вообще зачем здесь? Если бы в домишке никого не было, мы с Колей спокойно бы переночевали, а утром ушли, отдохнувшие и сухие. Мысль промелькнула быстро, но была такой нелепой, что я немедленно устыдился.
Нина сжала мою руку и улыбнулась. Никогда в жизни не улыбалась мне девушка симпатичнее. Я на миг представил, как буду рассказывать Олеже Антокольскому: Нинина белая рука держит мою, светлые девичьи ресницы трепещут, она смотрит на меня, беспокоится… Улыбка уже погасла, а я все рассказывал о ней Олеже — и совершенно забыл, что он, наверное, никогда этой истории не услышит. Велика вероятность, что он погребен под развалинами дома на улице Воинова.
Я попробовал улыбнуться Нине в ответ. Не удалось. Я вышел, подняв руки. С начала войны я прочел в газетах сотни очерков о советских героях в бою. И все эти люди отказывались признавать, что они герои. Они просто защищали отчизну от фашистских варваров. Когда у них спрашивали, зачем они бросались грудью на амбразуру дота, зачем карабкались на танк и бросали в люк гранату, они отвечали, что на их месте любой русский патриот поступил бы точно так же.
Стало быть, героям и тем, кто засыпает быстро, при необходимости удается отключать мысли. А «мозговая болтовня» остается на долю трусов и страдающих бессонницей — как раз публике вроде меня. Выйдя за дверь, я подумал: «Стою вот у сельского домика под Березовкой, а мне в голову целятся партизаны».
Судя по Колиной широченной улыбке, он вообще ни о чем не думал. Мы стояли с ним рядом, а наши невидимые допросчики нас разглядывали. Шинели наши остались в доме, и мы дрожали на морозе — холод пробирал до кости.
— Докажь, что наш. — Голос вроде бы доносился от заснеженного стога. Глаза мои привыкли к тьме, и я разглядел, что в тени на коленях стоит человек и целится в нас из винтовки. — Добей фрицев в голову.
— Тоже мне испытание, — ответил Коля. — Они уже мертвые.
Способность этого человека усугубить то, что и так уже хуже некуда, меня больше не удивляла. Может, герой — это просто человек, не осознающий собственной уязвимости. Стало быть, мужество — это когда по безрассудству ты не соображаешь, что смертен?
— А вот мы еще живы, — сказал партизан из тени, — потому что добиваем их, даже если думаем, что они сдохли.