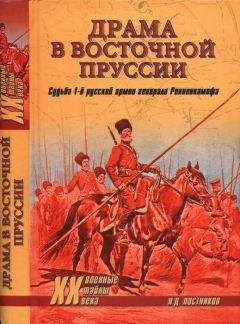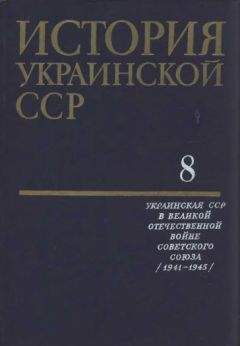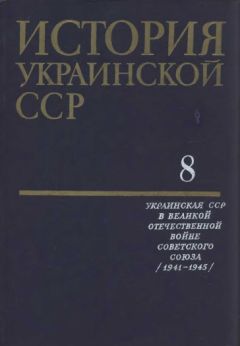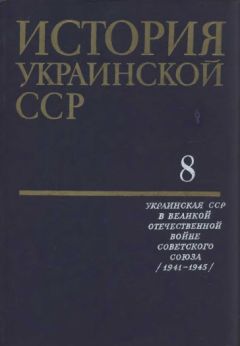Наполеон Ридевский - Парашюты на деревьях
Ни запасного белья, ни полотенцев, ни бритв, ни мыла, ни других необходимых вещей быта мы с собой не брали. В конце концов, думал каждый из нас, все это в Пруссии найдется, если только в них будет необходимость. Летим-то, как говорил покойный Пашка, в обетованную землю, не в пустыню. И вот понадобилось сменить одежду, которая пропиталась на нас потом и солью до такой степени, что стала грубой, как брезентовые робы, а не превратилась в клочья только благодаря тому, что мы почти никогда не снимали защитных пятнистых костюмов. Кепки свои мы все порастеряли очень быстро — в лесу они были неудобны, цеплялись за ветки и слетали — где их ночью отыщешь.
Конечно, раздобыть на хуторах белье и теплую одежду можно было. Но мы все время берегли надежду на скорую встречу со своими, и, естественно, хотелось дождаться этого момента в своей, советской одежде. Но наши войска все еще не наступали на Восточную Пруссию.
Николай Шпаков попросил «Центр» прислать груз с теплой одеждой. Недалеко от деревни Жаргиллен, к северо-востоку от Кенигсберга, мы облюбовали в лесу небольшую поляну. Это было километрах в 8 — 10 от нашей стоянки. Но леса отсюда расходятся во всех направлениях, поэтому врагу трудно угадать, куда мы направимся после получения груза, хотя уйти далеко до рассвета не успеем. Сюда и попросили сбросить груз.
Ночью 30 августа пришли на условленное место. Вскоре услышали гул самолета и помигали, как было условлено, карманными фонариками. Самолет на большой, как нам показалось, высоте дважды описал круг над поляной и исчез. Никто из нас не заметил, чтобы он сбросил груз.
— Неужели это был не наш самолет? — усомнился Мельников. — А где тогда наш?
Ему никто не ответил. Горечь и досада овладели нами. И все же, на что-то надеясь, мы прождали еще не менее часа, всматриваясь в глубокое звездное небо. Было удивительно тихо, безветренно, но зябко. Настороженно молчал лес.
— Пора, — просто, безо всякой интонации сказал Шпаков. — Пошли на старое место.
Метров за пятьдесят от поляны прямо на просеке мы наткнулись на белое полотнище. Это был наш грузовой парашют.
Обрадованные такой удачей, мы быстро переложили все содержимое в свои мешки, а парашют и мешок из-под груза зарыли в землю. Облазили соседние кусты и нашли еще один грузовой парашют.
К сожалению, груз оказался куда беднее, чем можно было ожидать. Несколько банок тушенки, немного сахара и потертых сухарей. В обоих мешках было всего восемь шинелей и столько же комплектов белья. Специально для девушек — ничего. Было обидно. В группе же в живых оставалось не восемь, а девять человек, и в «Центре» об этом знали.
— Какой-то жулик смахлевал, налево пустил часть нашего груза, — не стерпел Мельников.
— Видимо, тебя, Генка, не считают или не успели выполнить спецзаказа на детское пальтишко, — не удачно пошутил Зварика.
— Перестань, Юзик, не нужно так. Вы все будете одеты, — тихо сказал Шпаков. — Видимо, ошибка произошла. Может, груз для другой группы был предназначен, а попал к нам. Да в конце концов от этого не умирают. Мелочь. Вот что главное, — он показал на пару автоматов, беззвучку, солидный запас патронов, новые батареи, хотя во всем этом нужды пока не было.
Да и Николай не мог скрыть обиды, она чувствовалась по интонации.
Он сам тут же раздал комплекты с одеждой, каждому подбирая более подходящие по размеру. На всех дал банку тушенки — нужно было экономить продукты, ведь добывать их приходилось с риском для жизни.
— Не мешало бы добавки, — как всегда верный себе, простонал Мельников. — Разреши, Николай, еще одну банку слопать — будет сила, будут и продукты.
— Ешьте, — согласно кивнул головой Шпаков. Он сидел задумчивый, молчаливый, даже печальный.
Когда кончили трапезу, он сказал:
— До утра осталось мало времени. Далеко не уйдем. Придется дневать в этом лесу. Перемахнем только за железку. А сейчас — к реке, нужно помыться и переодеться.
Подошли к Швентойе, которая и здесь продолжала свой путь. Узкая — перешагнуть можно, глубиной с полметра, она спокойно текла под вербами, между кустистых ольх, приземистых елочек. Мылись по очереди, примостившись на плоском камне. Зина с Аней нашли себе невдалеке скрытное местечко.
— Вода холодная, — дрожа, вслух пожаловался один только Генка.
Мы помылись, сменили белье и переоделись во все новое. Главное, что у нас теперь были шинели, теплые ушанки. Одному только командиру пришлось остаться в старом.
— Ничего, потерплю до следующего раза, — ответил он на наши сочувствующие взгляды.
Старый свой хлам мы бросили в ямку, присыпали землей и сверху накрыли дерном. Ничего абсолютно не оставлять на поверхности — стало нашей привычкой, законом разведчиков.
Припрятали в надежном месте запасные автоматы, часть боеприпасов, батареи. Опять же под вековым дубом, постарались запомнить его месторасположение.
— Перенесем сюда и запасную радиостанцию. Так, на всякий случай, чтобы не находилась рядом с нами. Место здесь подходящее, — неожиданно решил Шпаков. — Его легко запомнить, — три таких великана. На наших картах это место означено названием «Драй кайзер Эйхен». В переводе на русский это означает «Три кайзеровских дуба».
Приободренные после еды и мытья, пошли быстро, пересекли железную дорогу, но не удалялись, расположились так, чтобы следить за движением по ней. Ничего с себя не снимали — не надеялись, что будет спокойно. Когда солнце уже поднялось над лесом, оттуда, где был сброшен груз, донеслись стрельба и шум голосов.
— Хотя бы тайники наши не нашли, — заволновалась Аня.
До нас немцы не дошли, день прошел без стычек, без изнуряющего маневра.
Нам редко приходилось разговаривать во весь голос. Как-то скупее стали на улыбку, на шутку. Посерели небритые лица у парней, потеряли румянец щеки у девушек. Тяжелое бремя взвалила война на их плечи. Им бы хороводы водить, венки из цветов вплетать в девичьи косы, а не бродить в тяжелых солдатских сапогах на далекой от Родины, трижды проклятой прусской земле. Каждому очень хотелось дожить до тех дней, когда в эти места вступит Красная Армия. И не было ничего более желанного, чем встреча с ней!
БЕЗЗВУЧКА
Мы часто чувствовали, как нам не хватает беззвучного оружия. Может быть, больше всего настораживали псы на хуторах. Убрать их с пути можно было только выстрелом. А выстрел настораживал патрулей, будил и хозяев, и соседей. Правда, в большинстве случаев деревни Восточной Пруссии состояли из хуторов с отдельными подъездами и подходами — редко деревни там были объединены улицей в нашем представлении, когда по сторонам ее в строчку стояли дом к дому, примыкал двор ко двору.
Все хутора, что нам приходилось встречать в Восточной Пруссии, были разбросаны, разделены нивами, лугами, кустарниками. Несколько таких хуторов, находящихся на расстоянии друг от друга до полкилометра и больше, называются деревней. На картах наших кажется, что все дома рядом стоят, а на местности оказывается все наоборот.
— Как волки живут, — говорил, бывало, Юзик Зварика, — каждый в своей берлоге. Совсем не похожи пруссаки на наших людей. У нас и горе и радость — все люди вместе делят. Подъедешь, бывало, к любой партизанской деревне — люди группками о чем-то толкуют, делится каждый своим, а девчата, как только свободная минута выдастся, — на танцульки. Даже если музыки нет, так под свой языковый аккомпанемент вальсируют или польку вертят. А тут ничего этого нет. Каждый сам по себе.
Юзик был прав. Пруссаки, как нам показалось, жили очень разрозненно. Мой дом — моя крепость — моя держава. Только по делу пруссак к пруссаку приходил. Мы это вскоре поняли и научились эту особенность их жизни использовать в своих интересах. Ведь, услышав сигнал тревоги, пруссак пруссаку и на помощь не придет. Он только понадежнее крепит запоры и сидит в своем толстостенном доме, как в крепости. Хутора однообразные: кирпичные дома и сараи и такого же красного цвета высокие черепичные крыши. Все на один манер, разница только в размерах и количестве хозяйственных построек.
Ни резьбы на карнизах, ни замысловатого обрамления дверей и окон, ни стеклянной веранды, которые так популярны в наших белорусских деревнях, здесь не увидишь. Дверь дубовая, ставни тяжелые — все как по стандарту, даже покрашено в одинаковый цвет. От этого все жилища кажутся казармами, а не домами, в которых живут простые крестьянские семьи. Дух мрачного пруссачества витает над всем.
Неуютно, одиноко чувствовали мы себя там. И хотя все мужчины были на войне — дома оставались лишь те, кто уже не мог быть призван в солдаты, — но мы при первых же хозяйственных операциях убедились, что здесь опасность подстерегает нас на каждом шагу.
Когда мы подходили к тому хутору, где дряхлый старик чуть было не пальнул в меня из двустволки и нас лаем встретил злобствующий пес, Иван Овчаров обронил как бы про себя: — Эх, бесшумку бы!..